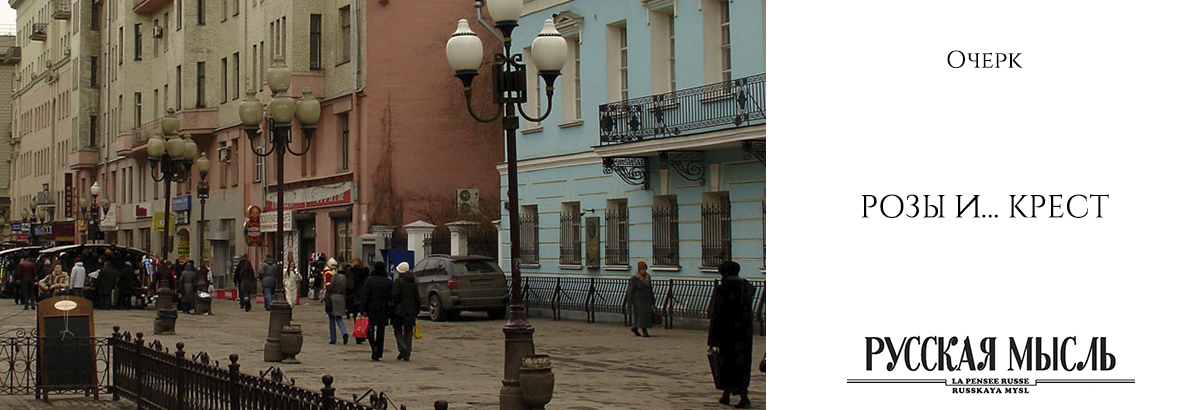Продолжение. Начало в № 155/05–06 (5026) и 156/07–08 (5027)
Вячеслав Недошивин
5. «ЧЕЛОВЕК С ОБОДРАННОЙ КОЖЕЙ»
(Адрес пятый: Москва, Арбат, 51)
«Остановить бы движение, пусть прекратится время», – сказал Блок Горькому за год до смерти. Даже ногой топнул.
Сначала вынес приговор себе: «Большевизм, – сказал Буревестнику, – неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье…» А потом спросил, что тот думает о бессмертии. Начитанный Горький сказал, что ученый Ламенне считает – все в будущем повторится и через миллионы лет в хмурый вечер они опять будут сидеть вдвоем и говорить о бессмертии. Тогда мало кто знал о Большом взрыве, о расширяющейся Вселенной, о сингулярной точке, о чем знают ныне даже школьники.
«А вы, вы лично, что думаете?» – уперся Блок. И когда Горький пробормотал что-то о превращении всего в сплошную мысль, Блок перебил его: «Дело – проще, – сказал, – мы стали слишком умны, для того чтобы верить в бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя». Вот после этих слов и бросил: «Остановить бы движение…» Да, остановить бы! Может, тогда мы разгадали бы, отчего звали его «сфинксом»?
«Человек с ободранной кожей», – скажет о нем поэт Георгий Иванов. Гумилев, отнюдь не друг, признает: «Он удивительный… Если бы прилетели к нам марсиане, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек». А Цветаева, назвавшая его «сплошной совестью», будет так боготворить его, что, посвятив ему цикл стихов, увы, не решится сама передать их. Передаст через дочь. Все стихи передаст, кроме того, где уже предсказала его смерть. Из суеверия, из убеждения, что все сказанное в рифму – сбывается…
Все случится 14 мая 1920 года в Доме искусств на Поварской…
«Выходим еще светлым вечером, – вспоминала Аля, дочь Цветаевой. – Марина объясняет мне, что Блок – такой же великий поэт, как Пушкин». Цветаева же, увидев Блока, запишет: «Худое желтое лицо с запавшими щеками… большие ледяные глаза, короткие волосы – некрасивый… Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнущийся – деревянный!.. В народе бы сказали: убитый». Но тут же добавит: «Все! все! все в мире бы отдала за то, чтобы – ну, просто, чтобы он меня любил!» Радовалась, что вокруг него «изумительные уроды», что он некрасив и других не очаровывает: «Значит – больше мой!» Но особо ликовала, когда поймала «волну», на которой он думал. Просто все в зале стали просить Блока прочесть еще и «Незнакомку». «У меня на губах, – пишет Цветаева, – “Седое утро!” Зала: “Незнакомку!..” Я, молча: “Седое утро!” Зала: “Незнакомку! Незнакомку!” Я, окаменев: “Седое утро!..”». И в ту же секунду Блок, словно услышав ее, тихо объявляет: «Седое утро…»
Ей очень хотелось подойти к нему. Чего, казалось бы, проще: «Я такая-то…» Но в тетради после этих слов вывела: «Обещай мне за это всю любовь Блока – не подойду». И не подошла. Когда вечер окончится, попросит знакомого подвести к Блоку Алю с конвертом ее стихов. «Я, когда вошла в комнату, где он был, сделала вид, что просто гуляю, – пишет Аля. – Потом подошла к Блоку. Осторожно взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю письмо. Он шепчет: “Спасибо”». Цветаева скажет, что жадно подглядывала из зала, как синий конверт ее Блок медленно прятал в нагрудный карман. «Так близко от сердца – в котором я никогда не буду», – запишет. И неожиданно добавит: «Боюсь, что скоро умрет. Нельзя – т а к – без радости…»
Больше его не увидит. Но, не увидев – фантастика! – узнает, как Блок в тот же вечер, улыбался, читая ее письмо. Это расскажет ей позже Надя Нолле, у которой Блок жил в 1920-м в Москве (Арбат, 51). Расскажет, что письма и записки читала ему она, после позднего чая.
«Так было и в этот вечер», – запишет Цветаева ее слова. «Ну, с какого же начнем? – рассказывала Надя Цветаевой. – Он: “Возьмем любое” – И подает мне как раз Ваше. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой почерк… Да еще и стихи… И он, беря у меня из рук листы: “Нет, это я должен читать сам”. Прочел… и потом такая до-олгая улыбка. Он ведь очень редко улыбался, за последнее время – никогда…»
Как слушала рассказ Нади Цветаева непредставимо; она ведь в ревности, да еще – к «божеству», не уступила бы никому. Ведь, записав это, она, уже подруга Нади, тут же едко добавит про нее: вот такие – обыкновенные, слабые всегда будут побеждать – «такие с Блоком, а не я…»

Блока в 1920-м позвала в Москву Надя. Поселила у себя, в трехкомнатной квартире на Арбате, где жила с мужем – уже сорокалетним Петром Коганом, уже профессором МГУ, кого Цветаева назовет «ангелом-хранителем писателей».
«– А я вас очень стесню? – спросил Блок Надю. – Ведь я теперь “трудный”.
– Не будем обсуждать этого сейчас, – рассудительно ответит Надя, – а через три дня я спрошу, есть ли у вас ощущение того, что вы нам в тягость…»
Тот май 1920-го окажется феерическим для Блока – последняя московская феерия. Все 11 дней звонки, письма, цветы, паломничество молодежи. «Он, – пишет Надя, – повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры». Надя отдаст ему ключи от квартиры и по утрам сквозь сон будет слышать, как тихо хлопала дверь – поэт уходил гулять, чтобы к завтраку вернуться с цветами.
Но про «убитость» Блока в тот приезд Цветаева написала не зря – он еле скрывал от Нади и свое раздражение, и усталость. Надя спасала его, как могла. Почти сразу поедет к нему в Петроград, подружится с матерью Блока, с Любой, будет вытаскивать его на прогулки, и однажды, в Летнем саду, поэт и поведает ей о той тайне, о которой она так и не скажет никому. А через девять месяцев, когда Надя будет на последнем месяце беременности, вновь вытащит его в Москву. Увы, теперь и Москва не спасет его.
Но в первый приезд Блока в Москву они еще гуляли с Надей по городу. Вместе ходили в театры и кино, приглашали к себе поэта Чулкова и того же Вячеслава Иванова. Однажды навестили Юргиса Балтрушайтиса – то ли еще на Покровке (Покровский бул., 4/15), то ли уже на Поварской (Поварская, 24), куда поэт этот, ставший к тому времени послом Литвы в России, переехал как раз в 1920-м. Да, Надя, конечно «царила», а Блок, кажется, лишь не давал пока воли своему раздражению. Чуковского, во всяком случае, спрашивал и не раз: «Какого черта я поехал?» Но два события в тот первый приезд в Москву – кукла и скамья – Блока все-таки обрадуют.
Как-то утром раздался звонок… Все в квартире еще спали. Сонная Надя отворила дверь, и ей передали (кто – неизвестно, она пишет – «инкогнито») довольно большой сверток и… ветку яблони в цветах.
«Я положила все это в столовой… около прибора Блока, – пишет Нолле. – Когда он встал и вышел к завтраку, то развернул пакет. В нем оказались две куклы: Арлекин и Пьеро». Намек, символ, память о «Балаганчике»? Скорее, все вместе, но куклы были ужасно красивы. Лилово-черный Арлекин и весь в белом шелке с черным тюлевым жабо и атласным алым плащом, перекинутым через плечо, Пьеро. На руке у Пьеро было даже кольцо. Арлекина Блок оставит себе, а красавца с кольцом Пьеро подарит Наде. Тоже символ…
А вторым «событием» станет московская скамья – любимая скамейка их прогулок. Необычным окажется место, где она стояла, – сквер на набережной у самых стен Храма Христа Спасителя. Ныне у храма все восстановлено: и сквер, и часовня, и даже скамейки. Когда мы снимали тот фильм о Блоке, с которого я начал рассказ, я не нашел в сквере разве что «белостволой березы», о которой пишет Надя.
«Кто помнит еще этот сквер и эту скамью над рекой, – напишет в коротких воспоминаниях Надя, – и тонкую белостволую березку за нею и куртины цветов. Над головой стрижи со свистом рассекают воздух, внизу дымится река, налево – старинная церковь, дальше, на другом берегу, – дома, сады. Блок спокойно, вольно сидит на скамье… Он снял шляпу, ветер легко играет шелковистыми мягкими вьющимися волосами, кожа на лице уже загорела, обветрилась, он курит, задумчиво глядя вдаль. Мы то говорим, то молчим…» На этой скамье он читал ей Лермонтова, Боратынского, готовые куски своей поэмы «Возмездие». И именно это, полюбившееся ему место будет, верно, манить его, когда он соберется в Москву в последний раз – через год. Он приедет в Москву в 1921 году и, кажется, обманется. Ничего в его жизни любимая Москва поправить уже не сможет. Скажу больше, именно в Москве в тот последний приезд Блока публично назовут «мертвецом». Словно приговорят!
В последний раз уезжал в Москву из Петрограда 1 мая в полдень, под гром праздника и ликующие крики победившего пролетариата, под медное буханье оркестров во главе бесконечных кумачовых демонстраций, в которых застревала пролетка Блока, спешащего к поезду. В Москву собрались втроем: Блок, Чуковский и Алянский, издатель, с которым поэт сошелся в последние годы. Чуковский, помнивший слова поэта, уже сказанные ему: «Я… чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет и когда живешь со сцепленными зубами», – теперь запишет в дневнике, что поэт поехал в Москву «против воли».
«Как-то в разговоре, – пишет Чуковский, – он сказал мне с печальной усмешкой, что стены его дома отравлены ядом, и я подумал, что, может быть, поездка в Москву отвлечет его от домашних печалей…» А Алянский вспоминал: «Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье Блока».
От поездки Блока отговаривала одна Люба, но ей он ответил: «Меня зовут, значит, я нужен, а если нужен, значит, надо ехать…»
Снимая фильм о Блоке, мы объехали все места Москвы, где он побывал в последний раз. От вокзала, где его встречала беременная Нолле-Коган, мы ехали к ней на Арбат той дорогой, которой, возможно, ехали они: Мясницкая – Лубянка – Охотный ряд – Воздвиженка. Машину для встречи Блока, как пишет Чуковский, дал теперь Коганам сам Каменев. «Машина – чудо, – пишет в дневнике Чуковский, – бывшая Николая Второго, колеса двойные, ревет как белуга. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хаменка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич…»
А Надя напишет, что «с первого часа… ощутила незримое присутствие какой-то грозной, неотвратимой, где-то таящейся… катастрофы…»
Не знаю, поведал ли Блок Наде, но родственникам Кублицким, которых, как известно, навестил в этот приезд, наверняка рассказывал про свою жизнь в Петрограде. Как однажды его арестовала ЧК, и на Гороховой, на забитом людьми чердаке, он спросил у соседа: «Мы отсюда выйдем?» – «Конечно! – сказал тот. – Разберутся и отпустят». – «Нет, – ответил Блок, – мы отсюда никогда не выйдем. Они убьют всех». И ведь могли убить, ведь в два часа ночи его вызвали к самому Байковскому, следователю. Только недавно, несколько лет назад, в книге работника КГБ Бережкова, я прочел, что этот Байковский, сын торговца мясом, не одолевший даже вступительных в гимназию, в ЧК стал заведующим следствием и «первым принимал решения о судьбе всех, попавших сюда». «Не имея доказательств, на основании личных показаний или анкеты, – пишет Бережков, – выносил приговоры о расстрелах; использовал лжесвидетелей, создавал условия, при которых арестованный “ломался”…» И этот Байковский, как пишет уже Блок, вдруг чудом выпустил его…
Рассказывал, думаю, Блок и как «уплотняли» его, и как заставляли в очередь дежурить у ворот, и какой-то шутник, проходя мимо, расхохотался ему в лицо: «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне», и как ходил на общественные работы – разгружать баржу, как голодал и замерзал. Хотя ему и рассказывать было не надо; все ведь видели, что человек с «упорно-веселым» взглядом, который любил жизнь и все в ней делал на совесть, косил траву, рыл землю, колол дрова, который не раз повторял, что работа везде одна – «что печку сложить, что стихи написать», так вот этот человек в два буквально года превратился в обглоданного, жалкого старика… Старика в сорок лет!
Про последнюю Москву его писать трудно. Слова нейдут. Дневник Чуковского фиксирует: уже после первого выступления (опять в Политехническом) поэт понял – приехал зря. «Сбор неполный, – пишет Корней Иванович. – Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец, согласился – и механически, спустя рукава, прочитал четыре стихотворения. Публика встретила его не теми аплодисментами, к каким он привык».
Уйдя в комнату за сценой, несмотря на мольбы Чуковского и Когана, ни за что не хотел выходить на аплодисменты. Потом все-таки вышел и неожиданно, как пишет Чуковский, прочел чьи-то стихи по латыни, без перевода. «Зачем вы это сделали?» – недоуменно спросил Чуковский. – «Я заметил там красноармейца вот с такой звездой на шапке. Я ему их прочитал…»
Чуковский пишет: «Меня это… потрясло! Вызвав несколько знакомых барышень, я сказал им: “Чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого стихотворения!”»
Кто был тот красноармеец, так и не снявший свою «буденовку» перед поэтом, неизвестно. Но как тут не вспомнить слова Блока, сказанные как-то поэту Садовскому: «Ненависть – чувство благородное, потому что она вырастает из пепла сгоревшей любви…» Это мог сказать только «отгоревший» – так напишет о Блоке тогда Всеволод Рождественский.

В Москве в последний приезд его будет несколько вечеров. Но Блок, несмотря на курсисток с цветами, выступал через силу, зло, понимая, что никому из горластой публики здесь не нужны уже его туманы, бездонности, боль несказанная. Публика – всего лишь «любопытный зверь», – шепнул Наде. И стихи выбирал нарочно мрачные. Одно заканчивалось, как напишет свидетель: «О, если б знали, дети, вы, // Холод и мрак грядущих дней!», а другое вообще обрывалось строкой: «Что тужить? Ведь решена задача: // Все умрем!..»
«Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, – вспоминал Борис Зайцев, видевший его на одном из вечеров. – Он был уже тяжко болен. Но думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После “Двенадцати” все было сорвано. Тьма. Пустота».
Блок выступит в Союзе писателей (Тверской бул., 25), в Обществе итальянской культуры – здании Высших женских курсов (Мерзляковский пер, 1). Но беда случится в Доме печати, в Белом зале нынешнего Дома журналистов (Никитский бул., 8).
Это был четвертый вечер его предсмертного «турне». Признаюсь, мы с телекамерой, поднявшись по знакомой лестнице Домжура, впервые глянули на этот зал отстраненно – чужими глазами. Например, глазами Пастернака, который тогда, только-только познакомившись с Блоком, случившееся в этом зале возмущенно назовет «кошачьим концертом». Впрочем, меня в его воспоминаниях больше всего поразит то, что Маяковский как раз накануне этого вечера сказал Пастернаку: «В Доме печати Блоку готовят разнос». Как это ни страшно, но скандал гению, кажется, был ожидаем – готовился кем-то.
Что же случилось на Никитском? Как пишут разные свидетели, после чтения Блоком стихов на сцену сначала выскочил какой-то солдат и прокричал в зал, что ничего из услышанного не понял, что это, дескать форменное безобразие. А потом на эстраду взошел тот, кто, кажется, понял все: некий А. Струве, завотделом губернского Пролеткульта (его путали потом с литератором М. Струве). Вот он-то и гаркнул громогласно: «Товарищи! Где динамика? Где ритмы? Все это мертвечина, и сам Блок – мертвец…»
В зале наступила оглушительная тишина. Ведущий вечера, молодой тогда поэт Павел Антокольский, увы, промолчал. На защиту, пишут, кинулся поэт Бобров, но при этом так кривлялся, что всем это напомнило клоунский номер. Потом, раздувая пики черных усов, за Блока вступился Коган и, ссылаясь на Маркса, стал доказывать, что на деле Блок – не мертвец. Вышло, пишут, и жалко, и пошло. В зале вспыхнут шум, крики, смех. Пастернак и Маяковский, знавшие о грядущем скандале, в Дом печати опоздают. Правда, по версии Чуковского, Маяковский был в зале, зевал, подсказывал рифмы, и все «наше действо, – пишет Чуковский, – казалось ему скукой и смертью». Сам Маяковский действительно скажет потом: «Я слушал его в зале, молчавшем кладбищем, он читал старые строки о цыганском пении, о прекрасной даме – дальше дороги не было. Дальше смерть…» Неизвестно, про это ли чтение скажет. Но особо, говорят, неистовствовали имажинисты – они и после смерти Блока устроят нечто уж совсем немыслимое – поминки по Блоку с докладом – «Слово о дохлом поэте». Пишут, что тогда Есенин с имажинистами и порвет. Но самым поразительным в Доме печати станет то, что Блок, услышав в свой адрес «мертвеца», закивает головой и за кулисами, сидя на каком-то стуле, отчетливо скажет Чуковскому: «Верно, верно! Я действительно мертвец…»
Возможно тогда, на следующее утро, Надя Нолле-Коган и проснулась на рассвете от шагов поэта за стеной, глухого кашля его и даже, как показалось ей, стонов. Она кинется к нему. Он сидел в кресле спиной к двери. На столе – плетеный из соломки портсигар, смутно белевшая бумага, в руках – карандаш. «В этот предутренний час все было серо-сумрачно, – пишет она. – И стол, и смутно белевшая на нем бумага, которую я всегда клала вечером на стол, даже сирень в хрустальном стакане казалась увядшей. Услыхав, что кто-то вошел, Блок обернулся, и я ужаснулась выражению его глаз, передать которое не в силах… Подойдя ближе, заметила, что белый лист… был весь исчерчен какими-то крестиками, палочками». Поймав взгляд Нади, Блок с остервенением отбросил карандаш: «Больше стихов писать не буду…»
Надя, успокаивая его, сказала, что уже не хочет спать, и неожиданно позвала пройтись. Вот тогда по спящим арбатским переулкам они и двинулись, не сговариваясь, к скамье у Храма Христа Спасителя. Спящий город, беременная на последнем месяце Надя и он, опиравшийся на палку, сорокалетний, обглоданный старик. Он не шутил по дороге как когда-то, не звал все встреченные памятники «карлами марксами», как смеялся недавно, гуляя в Петрограде с Евгенией Книпович. «Это кто?» – спрашивала Книпович, кивая на Радищева. – «Карл Маркс». – «Да ведь Маркс с большой бородой». – «Ничего, это он в молодости». – «А этот в парике, тоже Маркс?», – смеялась Книпович. – «Это он на маскараде», – улыбался Блок.
В этот раз в тишине рассветной Москвы он даже не осуждал время, не говорил уже, как сказал накануне поездки художнику Анненкову: «Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!.. Опротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лущить московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Венеции…» Нет, они ковыляли по предрассветному, безжизненному, словно чужому городу, не проронив ни звука, и это, мне кажется, было страшней всего.
«Мы шли медленно, молча, – пишет Надя, – и, дойдя до скамьи, сели. Великое спокойствие царило окрест, с реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды. День занимался. Как благоуханен был утренний воздух! Как мирно все вокруг! Какая тишина! Мало-помалу Блок успокаивался, светлел, прочь отлетали мрачные призраки, рассеивались ночные кошмары, безнадежные думы покидали его. Надо было, чтобы в этой тишине прозвучал чей-то голос, родственный сердцу поэта, чтобы зазвенели и запели живые струны в его душе». И тогда Надя, нарушив молчание, стала вдруг читать Фета: «Передо мной дай волю сердцу биться // И не лукавь. // Я знаю край, где все, что может сниться, // Трепещет въявь…» Вспомнить дальше не смогла. И тогда уже Блок, впервые улыбнувшись, подхватил: «Скажи, не я ль на первые воззванья // Страстей в ответ, // Искал блаженств, которым нет названья // И меры нет…»
А дальше было прощание и с Надей, и с Москвой – вокзал, перрон, его лицо, уплывавшее в вагонной раме, мученические глаза и те слова, помните: «Прощайте, да, теперь уже прощайте…»
Окончание следует