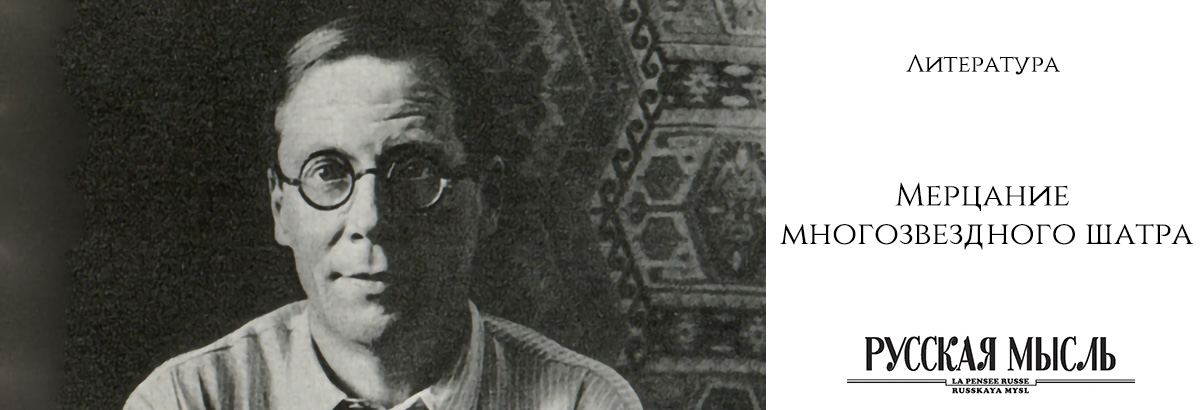К 120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого
АЛЕКСАНДР БАЛТИН
Веревочными лестницами закрученные «Столбцы» – или впрямь столпы новой поэтической веры? Ибо вера в силу слова, живущая в сознании и сердцах большинства поэтов, воистину религиозна. И как культовые строения выглядят различно, даже в пределах одной конфессии, так и храмины книг могут предлагать разные формы восприятия яви. В данном случае, как в «Столбцах»: щедро-игровые, отчасти абсурдные, с янтарным блеском метафорики, с часто алогичными связями внутри стиха.
Жизнь, казалось, далека от каверз: жизнь, связанная с речью избыточна, примет игру, впитает ее, поймет, оценит…
Тучи приходят, когда не ждешь, хотя сгущение атмосферы тогдашней реальности не могло обойтись без туч, и великолепный Николай Заболоцкий вычеркивается из жизни: лишний, мол, да и не до языков игрищ, когда такое строительство вокруг…
…Заболоцкий выжил – чтобы обогатить храм поэзии русской высотами прозрений и совершенной образностью, искусством мысли и сгустками словесного опыта:
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.
Как великолепен взъерошенный тополь и как чудно закольцована четвертая строчка!
А «Можжевеловый куст», «Читайте, деревья, стихи Гесиода», «У могилы Данте» вырублены из мрамора и высятся значительными памятниками речи.
«Рубрук в Монголии» содержит массу оживляющих текст подробностей, клубится сгустками истории: как будто поэт сам был свидетелем путешествия Рубрука.
Ясность и высота, прозрачность лесного озера, до глубины, до мелких подробностей раскрывается жизнь в поздних стихах Заболоцкого, и поистине сократовская мудрость жесткой солью переполняет их.
От игры – до величия, ибо ради поздних стихов Заболоцкий и выжил.
Заоблачно-конкретный Петербург Заболоцкого
…Заболоцкий, так точно и тонко переложивший мир, данный окрест, в суммы своих созвучий, – городской поэт. Вертикально-великолепные «Столбцы» доказывают это: природный, противостоящий городу мир чувствуется им до тончайших алхимических сосудов трав, что не отменяет его городской тайны…
Каждый город имеет душу: отсюда и русская поговорка: «Что ни город – то норов». И ежели речь о Санкт-Петербурге, то здесь норов, разрастающийся до мистической тайны бытия: в недрах которого (учитывая историю и географию) город играл сложную роль… Роль Гамлета, мстящего за отца: ибо Петербург заменил собой столицу, сам став ею…
Но есть в таинственно-конкретном образе города нечто от вечного, ветхого принца: никогда не умирающего, всегда вчиненного в смерть…
И разворачивается посвящение, исполненное Заболоцким Даниилу Хармсу, разворачивается густо и плотно – так соты созидаются пчелами, и Заболоцкий, столь тонко чувствовавший жизнь… всех, включая насекомых, находит словесные ритмы, наиболее соответствующие великому граду:
Стругали радугу рубанки
В тот день испуганный, когда
Артиллерийские мустанги
О камни рвали повода,
И танки, всеми четырьмя
Большими банками гремя,
Валились…
В мармеладный дом
Въезжал под знаменем закон,
Кроил портреты палашом,
Срывал рубашечки с икон, –
Закон брадат, священна власть,
Как пред Законом не упасть?
Сияют созвучия. Слова перекликаются, радуясь, кажется, тому, как нашел их великий поэт…
И град Петра Великого раскрывается неожиданно: по-заболоцки, с его ощущением сердца и пульса колонно-дворцового, дымчато-великолепного Петербурга…
Язык Заболоцкого периода «Столбцов» густ и сломан: сломан в колене, в узле, предполагающем новаторство, которым и одарил Заболоцкий русскую речь (прозаический аналог дал М. Зощенко): речь, обогащенную им, как уран, впитал Петербург, которому суждено было меняться, может быть, не так, как видел поэт, но формула, им выведенная, играет метафизическими символами времен:
Но уж корона вкруг чела
Другие надписи прочла.
И потом вспыхнет «Прощание»: убийство С. Кирова, ставшее поводом для поэтического речения:
Прощание! Скорбное слово!
Безгласное темное тело.
С высот Ленинграда сурово
Холодное небо глядело.
И молча, без грома и пенья,
Все три боевых поколенья
В тот день бесконечной толпою
Прошли, расставаясь с тобою.
Советская риторика тут не используется: тут – метафизика: при всех сменах исторического антуража величественной остается сущность Санкт-Петербурга, так тонко прочувствованная поэтом…
Новые ритмы
Время длилось – звякало и звенело, проносилось трамваями, наплывало новым бытом; время требовало ритмов, ранее неслыханных, и они зазвучали:
Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща.
Все не так: все со сдвинутым полюсом, со смещенным центром тяжести, и вместе с этим – именно и только так возможно передать наплывающую современность: когда даже ключица начинает стукаться звонко о перехват плаща…
«Столбцы» Заболоцкого подчеркнуто вертикальны, никакая горизонталь тут неуместна: они рвутся вверх, к солнцу новой жизни. Или к новому солнцу, которое непременно должно прорезать пространство, ибо старое обветшало…
Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеняли наши зданья.
Осеняли наши домы
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небе бегала напрасно:
Все квадраты улетали,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, –
Между солнцем и луною
Бродит утро за горами!»
«Столбцы» Заболоцкого выплескиваются в реальность, стихи, полыхая, воспаряют к небесам, живут, тешась и играя, внедряя поэзию в пространство реальности, сильно противоречащей ей.
Современник всем векам
Провидческое, всеобъемлющее зрение поэта! Оно идет не из снов, не из фантазий, но от подлинности ощущений:
Мне вспоминается доныне,
Как с небольшой командой слуг,
Блуждая в северной пустыне,
Въезжал в Монголию Рубрук.
Фламандский монах-францисканец по заданию Людовика IX совершающий путешествие к монголам, еще не знает, что предстоит ему написать книгу, по значению сопоставимую с трудами Марко Поло.
Много невиданного сулит Рубруку его путь, много словесной роскоши развернется в поэме…
О, начало путешествия будет слишком неблагоприятным. Пламенеющий путь Чингиса точно ударит в лицо мужественного Рубрука, обнажая суть Востока: захват… Захват всего, прав сильнейший…
Впрочем, тут уже не Восток, тут какая-то космическая ошибка, ведь прав должен быть тот, кто более прав!
Навстречу гостю, в зной и в холод,
Громадой движущихся тел
Многоколесный ехал город
И всеми втулками скрипел.
Покатится живой город, замелькают кибитки, оживет такое далекое время, что и не представить его толком – если только тени его. Многое вольется в грандиозное словесное построение Заболоцкого: и неистовые пасущие кобылиц монголки, и трудности перевода… остается ощущение, что поэт был рядом с путешественником, ибо он, поэт, современник всем векам.
Ирреальность реального искусства
Шикарная, смертельная, пышная, коварная, великолепная игра обэриутов! Язык, во многом определяющий человека, терпит любые эксперименты на бумаге, требуя порой в расплату живые судьбы. Объединение реального искусства предпочитало ирреальность: иначе не отразить происходящие зримо и исподволь процессы в обществе. Грядущее безвестно: оно, накапливаясь, может обрушиться погребающей под собой лавиной, но пока…
Пока щедрость «Столбцов» Заболоцкого плетется из таких созвучий, что дух захватывает. Мир должен быть обновлен, слово должно быть обновлено, метафора должна засиять: все будет не так, как раньше. И в «Столбцах» все это ликует и играет в избытке.
Хармс, во многом опережая Франца Кафку, ничего не знавшего о русском эксперименте, кропотливо и терпеливо выращивал зерна абсурда, и всходы покачивались, отливая разными тонами.
И фантазировал Введенский, закручивая алогичные образы, сочетая мысль и метафизику.
Коли электрон ведет себя, как частица и волна, почему бы языковым электронам не брать с него пример? Кванты языка, электроны речи, раблезианский карнавал оной… Следует культивировать абсурд, алогизм, гротеск – и действительность, подражая, увлекается игрой, превращая судьбы поэтов в гротеск, в кошмар, в абсурд…
…Николай Заболоцкий выжил ради великолепной ясности поздних своих стихов и грандиозной пирамиды переводов.
Космизм поэта
Нечто от бесконечного поиска Циолковского, от его прорывов в бездны фиалкового, снежно-белого, прошитого золотом, абсолютно счастливого космоса сквозит в поэзии Заболоцкого, четко разделенной на раннюю и позднюю.
Поздние стихи Заболоцкого перекликаются с полетом ракеты в такие пределы, какие еще не изучены мыслью, не охвачены чувством. Но и ранние вьются космическим экспериментом языка. И вновь мерцает тень Циолковского, но и – Платонова, ибо кто, как не он, погружался в языковую запредельность речи?
Излом, изгиб, нарушение размера, неистовство метафор – ранний Заболоцкий. Поздний – мерцание многозвездного шатра. И тот и другой стянуты в единство грандиозной личностью поэта.
Как внешний слом привычной жизни вторгался в стихи раннего Заболоцкого абсурдом, взрывами чего-то основного, так поздний Заболоцкий, имевший право рекомендовать деревьям читать стихи Гесиода, прорастал в глубину, в космос бытия.
Внешнее и внутреннее всегда союзны, хотя часто находятся в противоречии, порою смертельном.
Удары «Столбцов» точно пробивали атмосферу традиционности, предлагая специфическое видение мира – шатающееся, словно пьяное от своего безумия или от роскошного своего будущего.
…Но будущее самого поэта оказалось кошмаром: репрессии, коснувшиеся его железным дыханием, могли и вовсе уничтожить носителя огромного дара.
Или тот, чья воля выражается в непонятном напластовании опыта, часто ужасного, устроил все именно так для очистки грядущих стихов поэта от лишнего, внешнего, избыточного? Чтобы зазвучали они космической силой «Лица коня», «Лесного озера», «Осени»? Как знать…
Из ранних ран росли и поздние стихи Заболоцкого, иначе выстраивающие отношения с миром и толкующие его.
Тонкая гармония светового братства не зависит от сияния стихов; но без ощущения глобальной всеобщности бытия не будет поэзии, тем более такой значительной, как поэзия Заболоцкого.
Во многом знании – немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?
Природа хочет жить, и потому она
Миллионы зерен скармливает птицам,
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам
Едва ли вырывается одна.
Вселенная шумит и просит красоты,
Кричат моря, обрызганные пеной,
Но на холмах земли, на кладбищах вселенной
Лишь избранные светятся цветы.
Я разве только я? Я – только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый, и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!
Много в раннем Заболоцком того сгущения, которое предлагает новый быт и смена вех, но и проглядывающее сквозь все это мещанистое, пусто-наглое подвергается осмеянию…
Заболоцкий тяжелый поэт: строки его необыкновенно весомы. Заболоцкий поэт неба – все его травы и колбочки трав так влиты в сияющую синевой вертикаль, что странно, как люди не взлетают, держась за ниточки стихов Заболоцкого.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.
Ах, как редко встречаются такие лица! Обрести бы самому…
Вертикали стихов Заболоцкого столь стремительны, что, читая, сам не заметишь, как окажешься в дальнем отсеке духовных небес…
Ранний Заболоцкий, диагносцировавший слом общества через сломанный же, с новой выразительностью данный язык, далек, очевидно от философии космизма, подразумевающей пронизанность мира духовными лучами.
Но уже крестьяне в «Торжестве земледелия», обсуждающие «…где душа? Или только порошок остается после смерти?», связаны с этим феноменом отчетливо, крепко, простыми нитями и простыми душами…
Своеобразный космизм Заболоцкого раскрывается в поздний период его творчества, когда, вглядываясь в «Лицо коня», можно установить, что чувствовал поэт, переживший столько чудовищного, как влит он был душою в таинственные небесные дуги, заставляющие отдельные русские души взлетать все выше.
Призыв к деревьям – читать стихи Гесиода – из той же сферы: ибо космизм русский подразумевает основой единое ядро вселенной и тем более – единое человечество.
И у позднего Заболоцкого это выражено, как нельзя лучше…