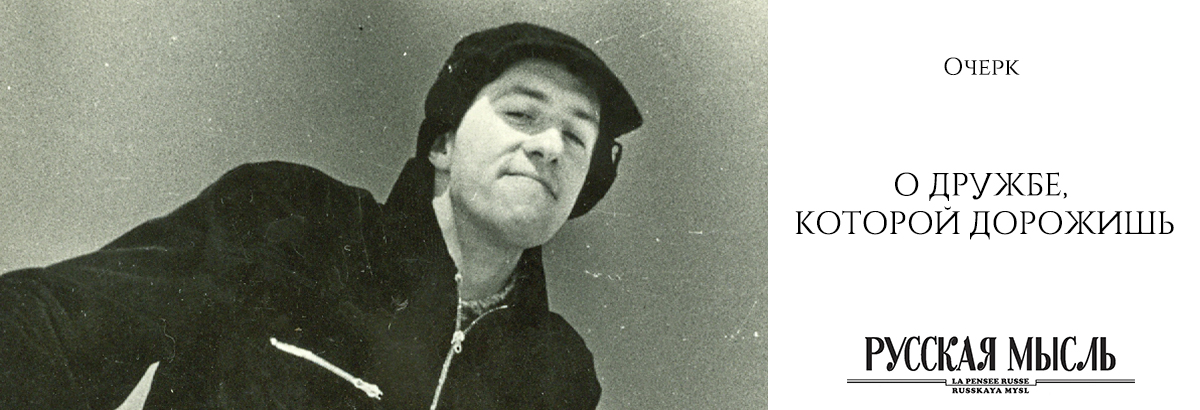О студенческой жизни 60-х годов прошлого века, о фантастическом городе Париже, о пьесе по рассказу французского автора, а также о странном студенте, который в конце концов стал известным священником
АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ
Люди часто и по праву гордятся своим родом, способностью к творчеству, умом. И жизнь их до поры до времени идет как по маслу. Но вот появляются, словно ниоткуда, Чингисхан, Тамерлан, Робеспьер, Гитлер или еще какой-нибудь новый преобразователь и демиург истории. И тогда наступает тяжкое для людей время. Ох уж эта ветреная фортуна! Подыгрывает, не глядя, первому встречному.
Фортуна фортуной, но все-таки для исторических катаклизмов, сопровождающих, как правило, деятельность подобных фигур, существуют объективные причины, их породившие. Они закономерны и обусловлены действиями и мыслями каждого из нас. Незнание этих причинно-следственных связей в их совокупности приводит к тому, что происходящие несчастья сваливают на Промысел Божий, на случай, на движение истории. Из этого незнания появляются идолы и кумиры, маги и колдуны, вожди и харизматические фигуры. В такое смутное время важно сохранять свою душу вживе. Вот заметка из «Записной книжки» Антона Чехова: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то».
Думаю, что без духовных и нравственно одаренных людей к общему благу не прийти. Я знал одного из них и дружил с ним. Его звали Василий Алексеевич Строганов. Как говорил мой однофамилец писатель Генрик Сенкевич, «дружба что иммортель: хоть это бледный цветок, но он никогда не вянет». От себя добавлю: не вянет даже тогда, когда твой друг уже отошел к Господу.
Начало
Из студентов Института восточных языков (ИВЯ) при МГУ им. М. В. Ломоносова выпуска 1965 года больше половины уже в мире ином. Когда-то давным-давно я написал:
Жизнь хрупка и ненадежна,
и проходит как во сне,
и как ветхая одежа,
расползается на мне.
И, почти забытый Богом,
потерявший отчий кров,
растворюсь я ненароком
среди туч и облаков.
Силой, властью и богатством
или чем-нибудь иным
залатать мне не удастся
превратившееся в дым.
Никто из моих однокашников долгое время и представить не мог, что кому-то придется писать воспоминания о ком-то из нас. Увы, такое время пришло. Как ни печально в этом признаться.
Всего-то нас, выпускников ИВЯ, в тот 1965 год было тридцать восемь человек. В 1959 году, в год нашего поступления, предлагалось изучение следующих восточных языков: хинди, китайского, арабского, вьетнамского, корейского. Самыми многолюдными были три группы: китайская, индийская и арабская. А к малочисленным группам относились вьетнамская и корейская. Вася Строганов учился во вьетнамской, состоявшей из трех человек.
И еще одна особенность отличала наш Институт от других факультетов МГУ – это небольшое количество студенток. Такая ситуация в то время объяснялась специфическим отношением к женщине на зарубежном Востоке, особенно в мусульманских странах. Потому-то девушки в основном были сконцентрированы в индийской и китайской группах. Можете представить, с какой завистью смотрели на юношей из этих групп их однокашники.
Кто-то может мне возразить: а как же филологический факультет МГУ, где преобладали девушки? В то время ИВЯ и этот факультет располагались напротив друг друга на проспекте Карла Маркса (ныне ул. Моховая), однако у будущих востоковедов, особенно китаистов и арабистов, свободного времени вообще не было. После лекций они еще несколько часов проводили в лингафонном кабинете. Да и остальные мои товарищи тоже не ленились и грызли гранит науки с похвальным усердием. Не случайно же поэт Арсений Тарковский написал: «Для чего же я лучшие годы // Продал за чужие слова? // Ах, восточные переводы, // Как болит от вас голова».

Для меня присутствие Василия Строганова среди моих сокурсников было подарком судьбы. Представьте себе прилежных до фанатизма студентов, среди которых почти каждый был нацелен на карьеру: либо научную, либо дипломатическую, либо на какую-то другую, совсем уж заоблачную. Между тем Вася Строганов и я относились к тем редким исключениям, для которых карьера была, как говорится, до фонаря. В этом отношении мы с ним были не от мира сего – юношами с художественными амбициями и парящими в облаках.
Книги – вот что нас притягивало, утешало и сплачивало. Как у Александра Пушкина: «О вы, в моей пустыне // Любимые творцы! // Займите же отныне // Беспечности часы». Через них мы искали и находили свою тихую заводь, остерегаясь одного: самим бы не покрыться тиной! Лишь немногим из нас доставалась гавань с выходом в открытое море. Мы немало времени отдавали чтению. Помню, как радовался мой друг, когда я купил в Книжной лавке на Кузнецком мосту по случайности изданный в 1961 году в СССР сборник «Тарусские страницы». В нем были напечатаны стихотворения Николая Заболоцкого, Владимира Корнилова, Давида Самойлова, Аркадия Штейнберга. А из прозы повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», рассказы Юрия Казакова и даже Надежды Мандельштам. Правда, вдову великого поэта напечатали под псевдонимом.
Читали мы с ним и литературу в самиздатовском исполнении, романы Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом», а также привезенные из-за рубежа кем-то из родителей наших общих друзей роман Евгения Замятина «Мы», политологические исследования на английском языке Милована Джиласа «Новый класс» и «Беседу со Сталиным» и «Технологию власти» Абдурахмана Авторханова.
Однако же между мной и Василием существовало также несовпадение некоторых интересов. Василий избегал в отличие от меня многолюдных и шумных компаний и практически не пил. Помню, как вместе со мной однажды попав на одно из таких шумных застолий, он, не привлекая внимания, вскоре незаметно юркнул за дверь. Обнаружив его исчезновение, я вышел на лестничную площадку и увидел его сидящим на ступеньках с книгой на французском языке в руках. Это были любимые им «проклятые поэты».
«Может, пойдем отсюда?» – сказал Вася, и мы пошли гулять по старой Москве, беседуя о Франции и ее поэтах. Василий Строганов уже однажды побывал за «железным занавесом». Случилось это событие в последнем классе московской спецшколы № 2 с углубленным изучением французского языка, которую он успешно окончил. Вот почему французский язык был для него почти родным. С первого дня своего пребывания в Париже, как значительно позднее рассказал мне отец Василий, он почувствовал себя таким счастливым, словно ангелы спустились с небес и запели. Когда он вспоминал эту поездку в 1956 году во Францию, его лицо всегда оживлялось улыбкой.
Я побывал в Париже через полвека после Василия Строганова и также с первого взгляда полюбил этот фантастический город. Даже написал стихотворение «Париж в августе». Вот отрывок из него, связанный с нашими очень давними, но не забытыми мною беседами:
Я говорил… О чем? И сам не знал,
слова глотая и меняя темы.
Белесый город уходил в астрал,
в себя впитав пьянящий дух богемы.
С ним уходил весь бедствующий люд,
до дна испивший чашу Монпарнаса.
Все те, кто там тогда нашел приют,
сейчас уже исчезнувшая раса.
И этот мир, что был суров и нищ,
воспринимался легким и забавным.
И овцы отделялись от козлищ,
и тайное вдруг становилось явным.
Нагретый воздух прелостью пропах.
В нем были тяжесть и угрюмость леса.
И Эйфелева башня в кружевах
взлетала вверх, преодолев железо.
С Васей Строгановым разговор всегда получался интересным и содержательным. Человек он был артистичный и умный, о чем свидетельствовала его манера вести беседу в слегка ироничном тоне. В то же время он не относился к тем, у кого душа нараспашку. Я за все годы нашей студенческой дружбы ни разу не видел его в состоянии аффекта. Ведь не всякому человеку дано умение держать себя в руках при самых неожиданных обстоятельствах. Характер Василия Строганова был «нордический, выдержанный», как у Штирлица из сериала «Семнадцать мгновений весны».
Можно до бесконечности вспоминать нашу студенческую жизнь с ее неожиданными всплесками энтузиазма и тут же гасившими этот оптимистический настрой событиями. Один только «Новочеркасский расстрел» в начале июня 1962 года у меня и Василия вызывал ужас, протест и желание убежать из родной страны куда подальше. Теперь известно, что приказ подавить «антисоветский бунт» силой исходил лично от Н. С. Хрущева.
Учились мы в Институте, где некоторая часть преподавателей состояла либо из репрессированных при Сталине, а при Хрущеве реабилитированных востоковедов, считавшихся «врагами народа», либо из их детей, выросших в ссылке и знающих восточные языки.
Ректор ИВЯ, Александр Александрович Ковалев, филолог-арабист, был человеком чести в дореволюционном понимании этого слова. К тому же он придерживался либеральных воззрений. Студентов вроде Василия Строганова и меня защищал от всяких внешних напастей упорно и последовательно. Вот поэтому его сняли с поста ректора ИВЯ в середине 70-х годов. Повод для такого решения у высоких начальников нашелся и был действительно веским. Именно тогда несколько студентов, отправленных на стажировку за рубеж (в том числе в Японию), не вернулись на родину.
Вспоминается много чего другого из нашей жизни того времени. И полет в космос Юрия Гагарина, и демонтаж портрета Сталина в полный рост и в мундире генералиссимуса. Он находился на факультете журналистики МГУ перед входом в полуподвальное помещение, где проходили наши занятия по военному делу. Портрет убрали в начале ноября 1961 года – как только ночью 31 октября тело вождя вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены.
Эйфорическое состояние молодых людей тех дней точно передано в фильме «Я шагаю по Москве», режиссером которого был Георгий Данелия, а сценаристом Геннадий Шпаликов. Вскоре эйфория исчезла, зато наша жажда читать настоящую, а не суррогатную литературу осталась.
Нельзя также забыть выступление Фиделя Кастро на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. Многотысячная толпа, его приветствующая, орала так неистово, что я, ею оглушенный, на несколько минут потерял сознание. Василий Строганов оказался психологически более крепким. Говорил он тихо, приглушенно. За много лет нашей дружбы я ни разу не слышал, чтобы он на кого-то повысил голос.
Первый блин не вышел комом
Начиная со второго курса я подрабатывал в отделе хроники на Телецентре, располагавшемся у подножья Шуховской башни на улице Шаболовка, 53. Предлагал сюжеты, как-то связанные с культурными событиями в Москве. Это было чаще всего творчество парней и девушек, работающих на московских заводах и фабриках. Кто-то из них писал стихи, кто-то рисовал, лепил или вышивал. Эта моя деятельность давала некоторый дополнительный доход к стипендии.
Однажды, находясь в одной из редакций Телецентра, я услышал разговор, что не хватает интересных коротких пьес для телевизионных постановок. Шел 1961 год. На следующий день, встретившись в Институте на перемене с Васей Строгановым, я спросил, нет ли у него на примете рассказа современного французского писателя, из которого получилась бы небольшая пьеса. Он, не говоря ни слова, достал из портфеля и протянул мне газету Коммунистической партии Франции «Юманите», одну из немногих иностранных газет, свободно продававшихся в московских киосках. В ней был опубликован рассказ «Удача», сюжет которого мне сразу понравился. К сожалению, имя автора я не помню и уже не к кому обратиться за помощью. Через два дня Василий положил передо мной перевод рассказа на русский язык и я принялся за работу над пьесой.

Уже само название рассказа предвещало успех. Да и сюжет его нельзя было назвать тривиальным, несмотря на всю его простоту. Перескажу его как можно короче. Журналист и фоторепортер популярного французского журнала навещают мать стюардессы. Ее уже нет в живых, она буквально за час до их прихода погибла в авиакатастрофе. Разумеется, они не сразу оповещают об этой трагедии мать погибшей, а ведут с ней долгий разговор о ее дочери, о том, как она росла и почему стала стюардессой. Лишь в самом конце беседы журналист неожиданно сообщает матери, что ее дочь погибла. И тут же фоторепортер запечатлевает шок, отразившийся на материнском лице. Именно такую фотографию для обложки журнала ждут в редакции. И она получилась! Такая вот выпала удача…
Я выстроил диалог журналиста с матерью стюардессы по нарастающей: от спокойного тона до крещендо. Пьесу на телевидении одобрили и с нами заключили договор. Премьера в эфире состоялась месяца через три.
В конце июня, получив довольно-таки большой гонорар, я и Василий решили отметить наш успех посещением шикарного ресторана. Надо сказать, что ни он, ни я в подобных заведениях еще ни разу не бывали. Обходились только кафешками. Мы остановились на «Берлине», одном из самых дорогих и фешенебельных московских ресторанов. Он находится на пересечении улиц Рождественки и Софийки (ныне Пушечной). В наши дни ему вернули прежнее название «Савой».
Выбранный нами столик находился неподалеку от бассейна с фонтаном, где плавали рыбы. Помню, что отмечали мы наш общий успех, не жалея денег. Впрочем, обошлись без цыганского хора. На этот раз Василий нарушил сухой закон, и заказанная нами бутылка венгерского вина «Бычья кровь» была выпита совместно и с большим удовольствием.
Развез нас по домам автомобиль «ЗИС». Тогда еще ходили по Москве такие такси.
Не забывай!
Через несколько лет по окончании Института восточных языков при МГУ Василий Строганов как-то вдруг неожиданно исчез с моего горизонта. До меня доходили слухи, что он уехал в Эстонию к Юрию Михайловичу Лотману, профессору и заведующему кафедрой русской литературы Тартуского университета. Там он увлекся семиотикой и типологией. Ю. М. Лотман был чуть ли не первым из тех филологов, кто разрабатывал структурно-семантический метод изучения литературы и культуры.
Василий работал с 1966 по 1970 год во Всесоюзном институте научно-технической информации. Там же он познакомился со своей будущей женой Инной Ратцевой. Они были идеальной супружеской парой, да к тому же их научные интересы совпадали.
Путь Василия Строганова к священству занял почти двадцать лет. 18 июля 1983 года он был рукоположен в сан священника. Новый вид деятельности не был в его жизни радикальной переменой. Вместе с тем он, как вспоминает его прихожанка Наталья Старостина, старший преподаватель кафедры классической филологии Московского университета, «своего лингвистического интереса и в новой своей жизни не оставлял, всегда живо интересовался, что там у них происходит. Иногда они дарили ему через нас свои книги (В. Живов, А. Поливанов); мы также дарили ему книги именно этого круга авторов: В. Успенского, Б. Успенского, А. Зализняка. Книги религиозные дарить мы не дерзали – ведь это он нас просвещал…».
Долгое время Василий Строганов преподавал в Московской духовной академии, расположенной близ Москвы, в стенах Троице-Сергиевой лавры Сергиева Посада.
Обращусь к воспоминаниям протоиерея Артемия Владимирова, знавшего Строганова по Московской духовной академии и многим богослужениям в различных столичных храмах. Так обстоятельно и всесторонне описать человека не всякий сможет. Для этого необходимо самому соответствовать морально-нравственным качествам того, о ком рассказываешь: «Он принадлежал к русской интеллигенции, в нем не было ничего низкого, пошлого, грубого. <…> В суждениях он проявлял сдержанность, строго никого не судил, умея всякое явление, предмет, всякую личность оценивать с разных сторон, избегая крайности в суждениях. Эта причастность к интеллигенции проявлялась в присущей Василию Строганову деликатной и благожелательной манере общения с людьми, в умении не только их выслушать, но и поддержать мудрым советом».
Дружба моя с моим студенческим другом восстановилась неожиданно. Однажды случайно встретились на московской улице и с тех пор не расставались. Это произошло задолго до того, как он стал настоятелем в храме Вознесения Господня на Большой Никитской (Малое Вознесение) – последнее место его служения.
Вспоминаю, как он помогал мне покупать святоотеческую и богословскую литературу для Российского культурного центра в Дели. В то время я возглавлял «Международное общество деловых и культурных связей с Индией». Книги, нами закупленные, были выпущены российскими издательствами, а также парижским издательством YMCA-PRESS, созданным еще в 1920 году. Помню, что мы закупили в киоске Государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино более двухсот книг. Среди них были сочинения Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина, Н. О. Лосского, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка.
Отец Василий приобщил меня, крещенного в младенчестве, к Русской Православной Церкви. Он же совершил обряд крещения моей дочери Екатерины в храме Вознесения Господня на Большой Никитской (Малое Вознесение).
Наша повседневная жизнь пестрит неожиданностями! Что ни день, обязательно появляется либо «рояль в кустах», либо «кот в мешке». Так и в моем случае. Одним из предыдущих настоятелей храма, где служил Василий Строганов, был мой хороший знакомый – Геннадий Александрович Огрызков (1948–1997). Я познакомился с ним в начале 70-х годов через моего младшего брата Николая. Они окончили один и тот же Московский архитектурный институт и работали в одном бюро.
Уже с моей первой встречи с Геннадием Огрызковым у нас обнаружился общий интерес к издаваемым за рубежом книгам русских писателей. У меня до сих пор хранятся переплетенные ксерокопии сочинений Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама вашингтонского издательства «Международное литературное содружество», а также «Неизданных писем» Марины Цветаевой, «Некрополя» Владислава Ходасевича и «Чевенгура» Андрея Платонова, выпущенных в свет парижским издательством YMCA-PRESS.
Эти книги, которые я на некоторое время брал у выезжавших за границу моих друзей, были отксерены Еленой Старокадомской, женой Геннадия. Предполагаю, что в этом рискованном предприятии помогал ее дед Михаил Агафангелович Старокадомский, профессор Московской духовной академии. Он же преподавал еще историю религии в Высшей партийной школе. К тому же был полиглотом. Свободно владел немецким, английским и итальянским языками. Точно не скажу, но кто-то из них, дед или внучка, имел доступ к редкому по тем временам лазерному копировально-множительному оборудованию.
В то время Геннадий увлекался восточной философией, и я ему как индолог был интересен. Муж сестры Елены Старокадомской вспоминал, что Михаил Агафангелович очень тонко и ненавязчиво отвел его от этого интереса, а самое главное – переориентировал на христианство.

Как утверждает мой брат Николай, интерес к христианству у Геннадия Огрызкова возник значительно раньше, в студенческие годы, и был связан с прочтением им статьи о Туринской плащанице в журнале «Наука и жизнь» (1983, № 12).
Антон Чехов был убежден, что «призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни». Другое дело, что далеко не всем из нас удается найти свой путь в жизни. Не имея смелости, мужества и чувства собственного достоинства, можно заблудиться в трех соснах.
Одно природное качество, необходимое для пасторской деятельности, было присуще как отцу Геннадию, так и отцу Василию – доброжелательность. Этот бесценный дар соучастия очень важен, когда необходимо помочь людям. Как писал Герберт Уэллс в своем последнем романе «Необходима осторожность» (1941), «выбраться из глухих дебрей устарелых, неправильных представлений, ложных понятий, самодовольной ограниченности и глубокого невежества, в которых мы так безнадежно запутались». Отец Василий был как раз из тех редких врачевателей, кто расчищает авгиевы конюшни в человеческих душах.
Двое из трех сыновей Геннадия Огрызкова – Сергей и Павел – пошли по стопам прадеда и отца.
Диакон Павел Огрызков вспоминает: «Мне хотелось бы рассказать об отце Василии, как о священнике, совершителе таинств, так как мне по моей должности приходилось служить с ним практически каждую службу на протяжении более одиннадцати лет. <…> Мне хотелось бы припомнить одну особенность отца Василия. Когда я у него исповедовался и после целовал крест, евангелие и брал благословение, он всегда говорил одну и ту же фразу: “Не забывай”. Я сначала не понимал, к чему это относится – то ли к исполнению Божиих Заповедей, то ли к памяти о том, что не нужно грешить, но вскоре привык и перестал на это обращать внимание. Теперь же я воспринимаю эти слова как просьбу не забывать все то, что я получал от дорогого отца Василия и молитвенно воспоминать о нем на каждой службе».
Были у отца Василия и недоброжелатели. У любого талантливого человека они есть. К тому же никого сейчас не удивишь тем, что сплошь и рядом люди непочтительно отзываются о тех, на кого еще вчера молились. Такая непоследовательность, по-видимому, объясняется человеческой природой, то есть волей Создателя. Вспомним «Книгу Екклесиаста, или Проповедника»: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить: время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (3:1–8).
Так и стоим мы, люди, тысячелетиями, как плакучие ивы под сильным ветром. Главное – не согнуться и не сломаться.