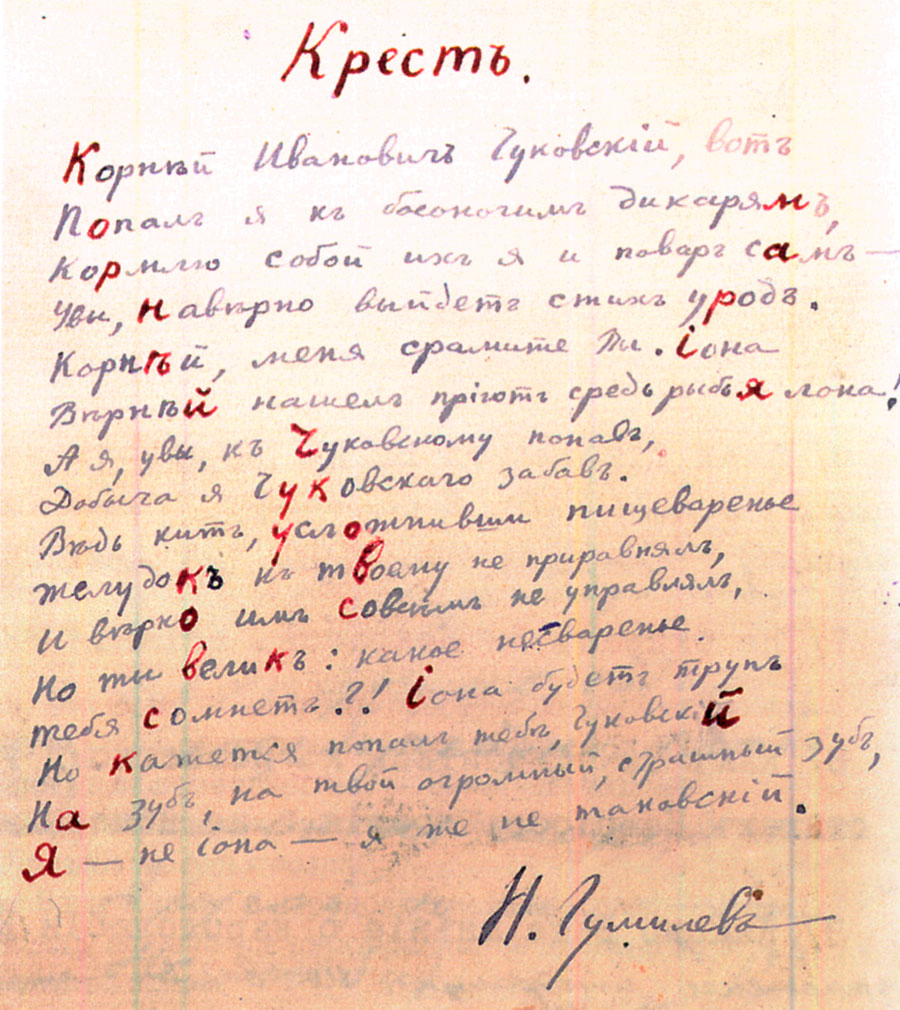Автор: Любовь Черная
15 апреля 2016 года исполняется 130 лет со дня рождения великого русского поэта, критика и переводчика, путешественника и воина, кавалера и русского офицера Николая Степановича Гумилева
О своем молодом ученике Николае Гумилеве Валерий Брюсов говорил: «…живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными существами; людьми, зверьми, демонами; в этих мирах явление подчиняется не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт…»
В самом деле, Гумилев именно населял создаваемые им миры, как когда-то в детстве, когда семья выезжала в недавно приобретенные «Березки» (в Рязанской губернии), Коленька, найдя там грот, воображал себя первобытным человеком (не отсюда ли «адамизм» акмеизма?).
С самых детских лет Гумилева завораживали «нездешние» места, позднее он опьянен приключениями героев Луи Буссенара, Майн Рида, Фенимора Купера, Жюля Верна; но важная встреча происходит чуть позже, когда к нему в руки попадают очерки «В стране черных христиан»: Гумилев сходит с ума от сознания, что где-то живут неведомые, дикие племена, целый континент, не затронутый машинной гарью… До самого конца он пронес это детское, трепетно-наивное отношение к миру воображаемому, тайному.
«…Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда казался мне ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной…» – это уже Владислав Ходасевич, познакомившийся с Гумилевым в голодном послереволюционном Петрограде, за несколько лет до расстрела поэта.
Детские годы Гумилева окрашены преимущественно в краски соперничества (в первую очередь, конечно, с братом Дмитрием): постоянное копание в себе, выискивание и искоренение недостатков, попытки преодоления слабостей. Отсюда, конечно, и увлечение рыцарской тематикой (Гумилев зачитывается «Неистовым Роландом» Ариосто) – ведь рыцарь не может позволить себе струсить, дать слабину. «Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчики не решались». И далее, неожиданно, здесь же: «Но учился я скверно. Почему-то не помещал своего самолюбия в ученье. Я даже удивляюсь, как мне удалось кончить гимназию».
Было чему удивляться! Выдержав экзамен на поступление в престижную гимназию Гуревича, Гумилев не выдержал нагрузки и был оставлен на второй год. Интерес к учебе терялся с той скоростью, с которой он погружался в миры сотворенные. Тем не менее обучение в гимназии Гуревича не прошло даром: Гумилев и его товарищи организовали целое «тайное общество» и устраивали заседания при свечах. Литература становится все больше частью физического мира: «В 14 лет я прочел “Портрет Дориана Грея” и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Я мучился этим. (…) Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем».
Гумилевы сняли квартиру на Сергеевской улице, и мальчики пошли сначала в одну, а затем в другую, лучшую, гимназию. В это время происходит еще одно знаменательное для Гумилева знакомство – он открывает для себя Фридриха Ницше: томик «Заратустры», многократно перечитанный, навсегда остался в библиотеке поэта. Впрочем, Ницше Гумилев прочитал достаточно поверхностно, вычленив отдельные мотивы «преодоления», «воли» и т.п. Эта «воля», приложенная к детской «игре в мир», и дала Гумилеву «колдовского ребенка, словом останавливающего дождь». В известной мере он «играл в Ницше», очарованный его сверхчеловеком, грезя о преодолении человеческого («слишком человеческого»). В сущности, все тут было игрой – разными играми на любой вкус судьбы: в войну, в путешествия, даже в смерть.
Есть замечательное воспоминание Ходасевича о святочном бале в зимнем Петрограде 1920 года (лютый мороз, голод): «…в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: “Ничего не произошло. Революция? Не слыхал”».
Это поразительное отношение к окружающему парадоксальным, на первый взгляд, образом роднит Гумилева с Даниилом Хармсом. За той оговоркой, что в страшные годы после революции еще очень свежа была память боевого офицера о былой эпохе, и игра велась в прошлое или просто иное, чем здесь, время; в страшные 30-е годы Хармс, как в кривом зеркале той эпохи, разыгрывает небывалые спектакли, носит самые фантастические костюмы и, конечно, пишет стихи, казалось бы, диаметрально противоположные «заветам» кристально ясной техники стихосложения акмеизма Гумилева. Впрочем, Гумилев никогда бы не узнал «своего» ни в Хармсе, ни в Введенском, ведь он с таким презрением относился даже к Хлебникову и ранним футуристам, заявляя, что на одной сцене с ними и выступать не станет.
Считая Брюсова своим учителем, первым (кроме матери, любившей стихи сына) признавшим дарование поэта, Гумилев, тем не менее, все более и более отходил от символизма. В 1911 году Гумилев с Городецким основали первый «Цех поэтов», объявив его участников «акмеистами» («акмеизм» – от греч. akme – «острие»). Акмеисты провозглашали необходимость возврата от «мира нездешних сущностей обратно к земной реальности». Мэтр акмеизма Николай Степанович определял задачи новой поэзии: о чем и как нельзя писать. В число приверженцев направления входили такие поэты, как Ахматова, Мандельштам, Кузьмин. Сам Гумилев по-хозяйски следил за работой акмеистов: вносил поправки, спрашивал строго и властно. Как-то Белый и Блок, придя на заседание «цеха», возмутились тем, что хозяева гостиной (Гумилев и супруга) сидят в глубоких креслах, в то время как гости вынуждены ютиться по лавкам и жестким стульям. Больше на заседания они не приходили.
Символисты разразились целым залпом пылких статей о новом движении, считая, что зарвавшихся юнцов следует осадить. Недовольство символистов (Брюсова, Вяч. Иванова, Белого, Мережковских) можно понять: открытый «демарш» Гумилева, да еще и заголовок программной статьи – «Наследие символизма и акмеизм» (в оглавлении вместо «наследия» вообще были «заветы») – звучали чуть ли не оскорбительно.
Но наиболее весомо и в глазах общественности, и, вероятно, в глазах самого Гумилева, ему оппонировал Александр Блок. В 1913 году выходит разгромная статья Блока «Без божества, без вдохновенья», где тот обвиняет Гумилева в сухости и теоретической механистичности его поэзии, оторванности от русской почвы, традиций и излишней рассудочности. Всеволод Рождественский вспоминает их разговор (очень типичный) в коридоре «Всемирной литературы»: «В сущности, говорил один Гумилев, все больше и больше переходя в доктринерский тон, говорил очень уверенно и, как казалось, не ожидал возражений. Блок слушал молча, с вежливой полуулыбкой, и только в конце замечал, несколько лениво растягивая слова: “Быть может, в формальном отношении Вы и правы, Николай Степанович, но мне все же непонятно, почему не появляются на свет одни только прекрасные стихи по заранее созданному рецепту. […] Мне кажется, здесь дело в другом: в личности самого поэта, в его способности слушать музыку окружающей его жизни. Стихов нельзя выдумать. Стихи – это сам человек, такой, какой он есть, или в лучшем случае такой, каким он хотел бы стать. Быть может, это даже спор с самим собой”. На этом обычно разговор и кончался».
Гумилев относился к Блоку порой даже слишком трепетно – однажды он заявил, что прикрыл бы Блока, если бы в него стреляли. Они познакомились в 1907 году, когда Гумилев упросил Брюсова познакомить его с Блоком. Уже в 1909 году Гумилев бросает: «Во всяком случае, я считаю себя не ниже Блока; в крайнем случае – Блок, а сейчас же после него я». Отношения между поэтами и далее колебались от холодного небрежения одного другим, до вежливого почтения и признания таланта. Гумилев неоднократно дарил Блоку сборники своих стихов (один из них даже подписан «моему любимому поэту), Блок отвечал тем же. Правда, отвечал иронично: на одном из блоковских сборников написано: «Н.С. Гумилеву, стихи которого я читаю при ярком свете дня». От насквозь ночного, лунного Блока такие слова, конечно, звучат однозначным приговором. Впрочем, среди помет в гумилевских сборниках в библиотеке Блока есть немало и хвалебных подчеркиваний строф и целых стихов.
С открытием М. Горьким в 1918 году издательства «Всемирная литература» встречи Гумилева с Блоком становятся регулярными – их обоих пригласили на службу. Кажется, если бы Николай Гумилев предложил бы не Алексею Толстому в Париже, а Александру Блоку в ледяном пожаре Петрограда уйти «плавать под черным флагом», история бы их отношений (а может, даже и судеб) повернулась бы совсем иначе.
Трагическое окончание жизни также связывает двух великих поэтов. Это чувствовали все. Горестным воем утраты звенят строки «На дне преисподней» Максимилиана Волошина, посвященного двум августовским смертям. Совсем не звучат преувеличением его слова о России, как о «горькой детоубийце», если вспомнить о предсмертных агониях Блока, рвущегося сжечь какие-то экземпляры «Двенадцати», о расстреле без суда Гумилева, известие о котором поразило современников своей почти нелепостью. Все в один голос вспоминали очевидную аполитичность Николая Степановича. Лариса Рейснер писала после расстрела одному итальянцу: «Malcheuresement il ne comprenait pas rien dans la politique, ce “parnassien russe”» («К сожалению, он (Гумилев) ничего не понимал в политике, этот “русский парнасец”»). Как на фронте (ведь «людская кровь не святее//Изумрудного сока трав») Гумилев героически спасал пулемет (второй его «Георгий») только потому, что рыцарь (опять же) не может позволить себе струсить (речь совсем не идет о патриотизме), так и в пресловутом Таганцевском заговоре он мог бы, конечно, участвовать (или хотя бы общаться с его участниками), проникнувшись романтикой подполья (вспомнить «тайные общества», в которые он играл со школьными друзьями).
Нужно признать, Гумилев любил себя, мог бесконечно хвастать и говорить о себе. Как вспоминает Ходасевич, вокруг него все время вертелись разные странные личности, представлявшиеся любителями поэзии. Гумилеву пытались намекнуть, что не стоит в их обществе откровенничать, но он не обращал на предостережения особого внимания. Горький, пытавшийся заступиться за Гумилева, рассказал потом Ходасевичу, что показания одного из таких «любителей поэзии» фигурировали в деле. Впрочем, никакого заговора могло и не быть вовсе, а Гумилев мог пасть пешкой, пожертвованной в большой политической игре: именно в это время выносились расстрельные и ссыльные приговоры по делу восстания матросов в Кронштадте, и Петроград был наводнен шпионами и провокаторами.
Николая Гумилева расстреляли 26 августа 1921 года. Вячеслав Иванов сказал, что «мы лишились надежды». Мандельштам сказал бы, что лишились «совести» (так он называл Гумилева).