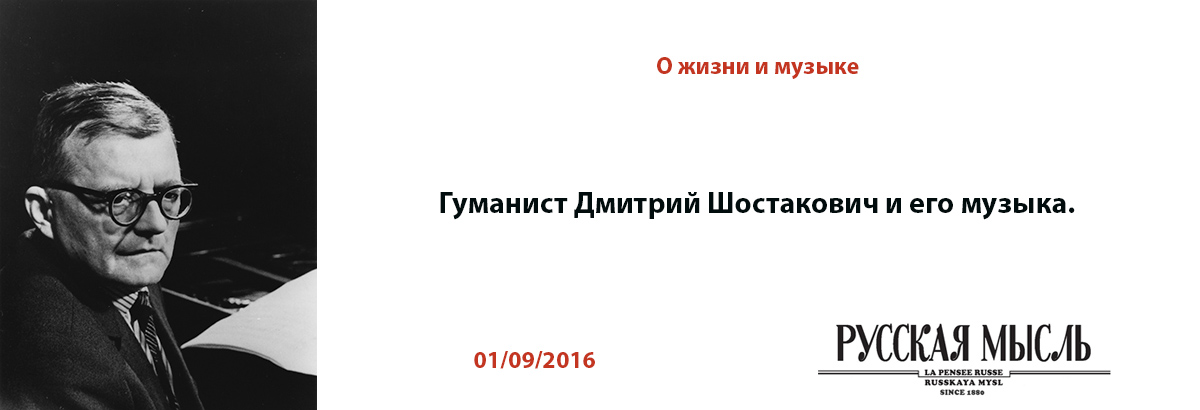Беседу вели Владимир Шуляковский и Виталий Васильев
25 сентября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
Своими воспоминаниями о великом русском композиторе Д.Д. Шостаковиче делится его сын, выдающийся русский дирижер Максим Шостакович.
– Максим Дмитриевич, расскажите о своем детстве. Кто с вами как с ребенком наиболее тесно общался?
– Это, конечно, семья: обе бабушки, дедушка, двоюродный брат, двоюродная сестра; это Комарово, куда нас возили на лето. Была у нас и любимая собака, которую звали Томкой. Конечно, детских воспоминаний очень много. Вот, например, приходил к нам на дачу немец, который в числе других военнопленных строил Приморское шоссе. Сперва мы его дичились, боялись, потому что у него была пилотка военная, курточка фашистская. А он к нам заходил, сидел, ему давали что-то поесть. А отец нам объяснял: “Вот посмотрите. Он же всего этого не хотел. Его нечего бояться. Он обычный человек. У него есть и дети, и семья. И он все потерял по вине фашистов. Несчастный человек”.
– То есть Шостакович гуманист не по лозунгу, а по сути сознания?
– Конечно. Да и музыка его была в первую очередь о человеке. И еще у Шостаковича было глубокое убеждение, что музыку можно научиться слушать. Если вы ее правильно слушаете, то начинаете понимать, что автор хотел сказать. Это язык, только без слов.
Я помню, что еще в Куйбышеве к нам домой приходил квартет. Репетировали по ночам, часов до трех. Я сидел в старом кресле и слушал. Тогда мне впервые стало интересно слушать музыку. Кроме того, папа всегда брал меня на концерты. Вспоминаю 1946 год – репетиции и премьеру Восьмой симфонии. Это произвело на меня огромное впечатление. Тогда я впервые понял, что хочу стать дирижером. Мама меня в этом очень поддерживала. Говорила, что сам Бог велел, ведь столько музыки вокруг. В общем, я постепенно приучался слушать и понимать музыку.
Когда я еще в школе учился, мы часто ходили всей семьей на концерты. Потом обсуждали, кто играл, как играл, хорошо или нехорошо, что плохо. Все это я “наматывал на ус”. И здесь авторитет отца был абсолютно непререкаем.
А одновременно с этим – обычная жизнь. Наш двор, мальчишки, футбол, коньки через плечо. Мы бежали на другую сторону улицы, потому что там был каток залит. Бывало, и под зловещие клаксоны, когда Сталин ехал на Первую дачу.
– По Кутузовскому проспекту?
– Да, по Кутузовскому. Вы знаете, мы все понимали. Но это было как-то между строк.
– Зловещая тень, она присутствовала?
– Я не хочу судить тех людей, которые плакали, когда умер Сталин. Но у нас этого не было. Женя Чуковский, внук Корнея Ивановича Чуковского, мой старый приятель, любил повторять: “С чего начинается Родина? С картинки в моем букваре…” и добавлял: “с того, что сказали родители, нельзя повторять во дворе”. Мы очень хорошо понимали, что язык надо держать за зубами. Что дома говорится, лучше не повторять, иначе можно исчезнуть, как многие и многие. Очень хорошие люди сгинули в ГУЛАГе, в том числе и знакомые моих родителей.
– А в каком году вы уехали из Ленинграда?
– В 41-ом. После того, как началась война. Мы были эвакуированы в Куйбышев. Я это очень хорошо помню, потому что тогда в первый раз сказал букву “Р”. Как сейчас помню, дом на Большой Пушкарской, где мы жили, как я спросил: “Папа, вдруг немец, когда мы полетим, вдруг как т-р-р-р-ахнет…” И тут у меня вышла буква “Р”. А потом была эвакуация, огромное количество раненых, пропитанные кровью бинты на головах и конечностях. Конечно, все было ужасно. Все это замечательно отражено в Cедьмой симфонии. Прекрасно помню ее первое исполнение в Куйбышеве. И тема в первой части – эпизод нашествия – на меня произвела огромное впечатление.
Помню, как страшно нам было. Фашистов все боялись. Боялись того, что они придут. Как этот барабанчик в Седьмой симфонии начинается очень тихо, а потом все ближе, ближе, ближе. И ночью, когда все ложились спать, я чувствовал эту близость опасности и начинал горько плакать. Но моя верующая няня Прасковья Ивановна Демидова – ее комната была вся в иконах, а лампада всегда горела – вставала, приходила ко мне и говорила: “Ой, Максимушка, бедный, не плачь”. Потом Прасковья Ивановна читала мне Псалтырь, и только после этого я засыпал.
– Если помните, лет двадцать назад на Западе вышла книга Соломона Волкова, где упомянутый вами эпизод из Седьмой симфонии трактуется не как нашествие врага, а исключительно как звуковое воплощение сталинской репрессивной машины.
– Мне, конечно же, известна эта трактовка. Здесь, наверное, многое сыграло роль. Но, прежде всего, это война. Если учитывать то, что Шостакович мастер грандиозных обобщений, то мое личное мнение, что это военная симфония. Она о трагедии, о тех войнах, которые были, будут, и о той, которая была. Это обобщение катастрофы, в которую периодически ввергается человечество: война, боль, кровь, смерть. Но одновременно это и мечта о светлой и прекрасной жизни. Там в музыке все есть. Отец, конечно же, знал о том, что происходит в стране. Он потерял немало друзей, близких. Кроме того, многие наши родственники были репрессированы.
– Вы сказали о верующей нянечке, что иконы были. А сам Дмитрий Дмитриевич как ощущал себя, как позиционировал по отношению к православию.
– Вы знаете, он еще до Седьмой симфонии мечтал написать Реквием. И потом что значит позиционировал? Папа же из православной семьи, крещеный человек.
– Крещенный?
– Естественно. Даже нашлась папина крестильная грамота. У меня есть ее копия, где написано, кто восприемники и пр. В письмах он, например, писал: “Сегодня был в Храме Христа Спасителя, молился за всех вас”.
– То есть в храм Шостакович захаживал?
– В то время практически никто не ходил в церковь. Шостакович же был публичный человек, депутат Верховного Совета. Но, тем не менее, моя мама всегда ходила к заутрене на Пасху, и Рождество всегда отмечали. А отец на Пасху обязательно обзванивал своих верующих друзей и знакомых и говорил им: “Христос Воскресе!”
Я как-то подарил папе бронзовое распятье, которое стояло до самой его смерти на тумбочке. А сверху, над кроватью, у него висела небольшая репродукция картины Тициана “Динарий кесаря”. Он мне часто говорил: “Вот посмотри, какое светлое чистое лицо у Христа. А ниже такой черный противный фарисей, который монету показывает и говорит: “А чего ж ты подати платишь?” А Христос отвечает: “Отдай Кесарю – кесарево, а Богу – божье”. Отец так и говорил, что Христос – чистота и правда, а фарисей – ложь и всякая гадость.
– И он с вами об этом беседовал?
– А как же. Когда некоторые говорят: “А что он, собственно, писал там? Какие-то оратории: “Над нашей Родиной солнце сияет…”, и в таком роде, вот ему ордена и давали”. Кесарю – кесарево, а Богу – божье, а музыка та все равно осталась. Хорошая музыка, другой Шостакович не писал.
– Вообще, это довольно интересный вопрос – взаимоотношения Империи и Художника. Иногда возникает ощущение, что творческому человеку просто необходим некоторый пресс обстоятельств, определенное давления извне.
– Вы знаете, в ваших словах есть глубокая, и, к сожалению, горестная правда. Какие интересные творческие всплески дают катаклизмы. Например, Первая мировая война и Серебряный век. В это время творили Стравинский и Прокофьев, поэты Брюсов и Блок, философы Бердяев и Мережковский. Вы видите, что случилось после такой большой крови. Когда затишье, мы видим, что ничего выдающегося в искусстве не происходит. Хотя если мы посмотрим на музыку Малера, сколько у него там горя. А у Брамса, нет что ли? Это человеческая жизнь, она всегда и во все времена была очень разноплановая. К сожалению, горе было и тогда, и потом. По большому счету, мы можем говорить не о непосредственном влиянии Империи на Художника, а опосредованном.
– Однако, в жизни у Шостаковича был такой критический момент – редакционная статья в газете “Правда” “Сумбур вместо музыки” об опере «Леди Макбет Мценского уезда» , означавшая в то время почти что смертный приговор.
– Это была чистая несправедливость.
– А кто у вас бывал дома, в гостях?
– Вы знаете, окружение было очень интересное. Мама была известным физиком. Занималась изучением космических лучей. У нее было много интересных научных работ, много командировок в высокогорные обсерватории и научные станции – там улавливали частицы из космоса. Отец часто навещал маму в ее командировках.
В доме у нас нередко бывали выдающиеся физики. Приходили Ландау и Капица, бывал и Мигдал. Знаете, ученые тех лет были очень интересны. Я замечал, что они все знали: о биологически открытиях, о кибернетике, о генетике. Они помогали друг другу. Например, если давали деньги в армянский Институт физических проблем, то под видом того, что это было нужно для физики, делали “нелегальную” лабораторию для генетических исследований. Генетика же была запрещена. В послевоенные годы очень много чего изобреталось, ведь наступала новая космическая и атомная эра. Все это было безумно интересно.
А к папе приходили его друзья – музыканты, кинорежиссеры: Арнштам, Козинцев, Трауберг, который пугал нас и рассказывал английские новеллы о Дракуле. Мы после этого спать не могли. Приходили Лева Оборин, Давид Ойстрах, потом Ростропович молодой присоединился. Часто в доме бывали и папины ученики, которые всегда показывали что-нибудь новое. Кроме того, отцу присылали очень много пластинок из Америки и Европы, и он был в курсе всего, что происходило в музыкальном мире. Мы тоже многое слушали. Например, Гершвин в детстве мне очень нравился.
Серьезным испытанием для всех нас стал 48-й год (в феврале 1948 года вышло постановление ЦК ВКП(б), в котором Д. Шостаковичу и С. Прокофьеву, А. Хачатуряну, В. Шебалину, Г. Попову, Н. Мясковскому были предъявлены обвинения в «формалистических извращениях, антидемократических тенденциях в музыке, чуждых советскому народу и его художественным вкусам». – Прим. ред.). Это ужасное дело, эта несправедливость, которую мы чувствовали. Я уже тогда понимал значимость Шостаковича как композитора, величие его сочинений и то, что ему надо было немало мужества, чтобы все пережить. Но страшно было другое: бывшие друзья переходили на другую сторону улицы, когда нас встречали. Время действительно было тяжелое. Ощущалось, что ты клейменный какой-то.
– Долго длился этот период? Как Шостакович переживал его?
– Я так думаю, что его спасало творчество. Сразу после постановления он стал что-то новое сочинять.
– Депрессивных состояний не было?
– Нет.
– Однако, если судить по известным фактам, первый “партийный удар” Шостакович переживал довольно тяжело.
– Да. Но это был 36-й год. Отец тогда был много моложе.
– И сразу после этого появляется его гениальнейшая симфония.
– Да. Пятая.
– Снова Империя и Художник?
– Да. Но меня иногда коробит непонимание. Ведь Шостакович свою музыку запустил в следующий век, в будущее. Только непониманием можно объяснить восприятие финала Пятой симфонии как апофеоз, как гимн советской системе. Это же совсем не так. Я считаю, что Пятая – героическая симфония. Он этими последними мощнейшими ударами большого барабана как бы говорит: “Нет, я буду идти своим путем, я никуда не сверну. Я презираю все это зло, да будет Свет!”
– Как тут не вспомнить светлый образ Христа с картины Тициана, о которой мы только что говорили.
– Вы абсолютно правы. Недаром этот образ висел много лет над кроватью Дмитрия Дмитриевича. Он всегда смотрел на него.
– А кто с вами музыкой занимался? Отец уделял внимание как педагог?
– Он начал нам сочинять маленькие пьески для рояля. Первой их учила моя сестра Галя. С ней стали заниматься раньше, потому что она на два года старше меня.
Папа потом всегда смеялся, вспоминая, как Галя плакала, разучивая веселый галопчик или полечку, потому что не хотела играть. А я протест выражал, что ее учат, а меня нет. Как так! Кроме того, я обнаружил, что если залезть под рояль и нажать на педали, то звук будет гудеть. Я и нажимал эти педали, чтобы Галя не могла играть. Потом я поступил в ЦМШ (Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. – Прим ред.) и тоже прошел через папины маленькие пьески.
– Кто у вас был педагогом?
– Елена Петровна Ховен. Она была у нас как бабушка. Мы пользовались ее необыкновенной добротой. Она с нами еще дома занималась, кроме школы. Наверное, ей так было удобнее. И вот придешь к Елене Петровне и говоришь: “Я голодный”. Она начинает сразу что-нибудь готовить.
На окончание школы я выпросил у отца фортепианный концерт. Он мне его посвятил, и я был первым его исполнителем. Я его играл и на окончание школы, и на поступление в консерваторию, куда попал в класс к замечательному музыканту Якову Владимировичу Флиеру. Вначале я занимался только на фортепианном факультете. Потом стал совмещать с дирижерским факультетом, который вскоре был закрыт. Тогда я переехал в Питер и занимался у Николая Семеновича Рабиновича. Когда факультет в Москве снова открыли, я вернулся и продолжил занятия у Геннадия Николаевича Рождественского. Потом поступил ассистентом к Веронике Дударовой в Московский государственный симфонический оркестр. Объездил всю страну. Везде-везде побывал. Потом был конкурс в Госоркестр. Я выиграл этот конкурс и стал ассистентом Светланова. С этим оркестром исколесил буквально всю Америку, Японию, Канаду, Мексику, Европу. Когда закончился ассистентский срок у Светланова, начал работать с оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио, где вскоре стал главным дирижером.
– А с кем вы дружили в школе и консерватории?
– Мне повезло с друзьями. Многие потом стали замечательными поэтами, писателями и художниками. Дружил с Лешей Баталовым, с Илюшей Катаевым, сыном Валентина Петровича. Много общался с молодым Андреем Тарковским.
– Вы видели в нем личность в те молодые годы?
– Ну а как же!
– А какие книжки вы читали в детстве, юности? Были вещи, которые повлияли на формирование сознания?
– Это, в первую очередь, та библиотека, которая была у папы. Он часто рекомендовал что-то почитать. Как-то он рассказал мне, что его отвращение к предательству пришло через рассказ “Маттео Фальконе” Проспера Мериме. Помните, как контрабандист спрятался в сено, а полицейские и карабинеры, которые его ловили, начали качать часики золотые перед лицом мальчика и говорить: “Ну, скажи! Ну, где? Где?” И мальчик его выдает. За что отец его и застрелил.
– Ребенка?
– Да. Сына своего, за предательство. Хотя это и очень страшно.
– И Дмитрий Дмитриевич вам такой рассказ давал читать?
– Не только читать. Он давал свои комментарии.
– А его много раз предавали?
– Ну, я же говорил. Люди переходили на другую сторону дороги от страха, что они увидят Шостаковича, подойдут, пожмут руку.
– А были такие друзья, которые не побоялись опалы и наоборот поддержали Дмитрия Дмитриевича.
– Конечно, были. Но были и те, кто не гнушался клеветой и доносами. Мне это доподлинно известно.
– Помимо музыки отца, какая еще музыка вам в юношестве нравилась, чему отдавали предпочтение?
– Конечно же, большой классике. Брамсу, Малеру, другим столпам симфонизма. Я считаю, что это своеобразная цепь. Ведь каждый выдающийся композитор-симфонист не на ровном месте появился. Он всегда связан с предыдущими своими коллегами. Не может быть такого, что на пустом месте вдруг возникло что-то совершенно новое и гениальное. В конце концов, музыка должна быть просто хорошая и талантливая. В каком жанре и когда она написана – это уже другой вопрос.
По материалам «Русского музыкального общества»