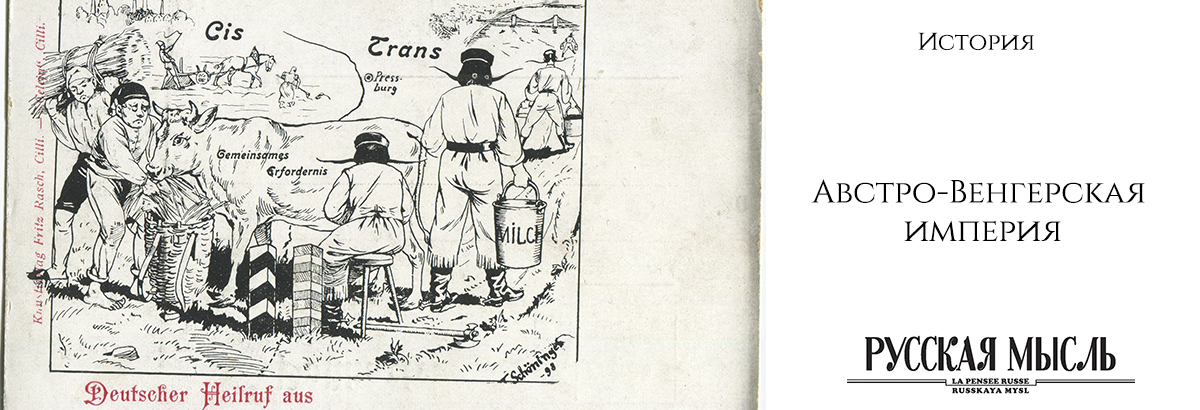От «лоскутной империи» до «лаборатории федерализма»: историческая судьба монархии Габсбургов
Александр Медяков, доктор исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Сегодняшнее историческое знание весьма далеко ушло от знаменитого завета Леопольда Ранке – показывать, «как это, собственно, было». За последние десятилетия интерес к былому (в том числе и в изучении истории империй) сдвинулся от «истории факта» к разного рода конструкциям и репрезентациям прошлого, к памяти о нем, примером чему может служить международный проект «Фантомные границы в Восточной Европе», показавший, в частности, что распавшаяся еще в 1918 году монархия Габсбургов до сих пор живет в различных социальных и политических практиках людей, населяющих ее бывшие территории. Более того, все яснее заявляет о себе стремление показать прошлое скорее даже таким, «каким оно, собственно, должно было быть».
Нынешняя «политика памяти» простирается от «исторического инжениринга», то есть косвенного воздействия на направления исторических исследований путем создания соответствующей политической повестки, деятельности различных фондов и распределения грантов, до масштабных, системных, нередко институционально подкрепленных (например, с помощью «институтов национальной памяти» в Восточной Европе) действий государства. Как следствие, нередко изменяется историческая ретроспектива, сама коллективная память целых народов, в результате чего, например, по опросам общественного мнения, в «десятку великих немцев» перестала попадать даже такая прежде культовая фигура, как Фридрих Великий, не вписывающаяся отныне в целенаправленно выстраиваемую «демократическую» парадигму немецкой истории. Важным импульсом, как и во все времена, для нового осмысления прошлого явились также масштабные перемены, даже потрясения последних десятилетий. Во многом следствием всех этих процессов стала резкая актуализация темы империй, настоящий имперский бум, одним из центров внимания которого оказалась монархия Габсбургов.
Речь идет об изменении самого ракурса видения империй. Классическая перспектива была задана еще британским историком конца XVIII века Эдвардом Гиббоном в знаменитом труде, название которого фактически являлось архетипом судьбы всякой империи – «История упадка и падения Римской империи»: империи гибнут.
События следующих двух веков и в особенности крах Османской империи и Австро-Венгрии добавили конкретности относительно причин гибели империй Нового времени, предложив перспективу национального государства. Отныне именно оно фактически объявлялось нормой, в то время как многонациональные империи превращались в искусственные образования, лишь сдерживавшие его развитие. Иными словами, эта перспектива была не прямой, а обратной, телеологической, исходившей из знания о конечном крахе монархии Габсбургов и возникновении на ее обломках национальных государств. Подобный подход практически программировал особенное внимание к разного рода кризисным проявлениям в истории страны при вольном или невольном умалении моментов устойчивости и развития. Неслучайно на протяжении большей части XX века в названиях издававшихся в разных странах обобщающих работ по истории Австро-Венгрии довольно часто фигурировали вполне гиббоновские «упадок», «закат», «гибель».
Советская историография не была исключением в том, что касалось пессимистичной оценки Дунайской монархии, однако отличалась выраженной спецификой. От дореволюционной историографии, пусть и не сразу, был унаследован тезис об освободительном характере российской балканской политики и соответственно захватнической австрийской; национальные проблемы объяснялись классовой ограниченностью буржуазного государства. Так, оказываясь агрессивным «династически принудительным конгломератом центробежных национальных осколков» в 20-е годы XX века, монархия Габсбургов сохраняла те же оценки и два десятка лет спустя. «Австро-Венгрия была многонациональным государством, получившим название “лоскутная империя”. Это многонациональное государство, охватывавшее народы с разными языками, нравами и обычаями, образовалось в результате захватнической политики правителей Австрии на протяжении ряда веков», – писал, в частности, академик И. П. Трайнин.
Закреплению негативной оценки Дунайской монархии после Второй мировой войны способствовало влияние на советских историков историографии стран социалистического лагеря, значительная часть которых возникла на обломках государства Габсбургов. Так, известный историк-югославист Ю. А. Писарев отмечал, что «многонациональная монархия Габсбургов, созданная в результате захватнических войн и территориальных присоединений, осуществляла политику национального угнетения и по праву была названа “тюрьмой народов”».
Рубеж 1980–1990 годов стал не только переломным в европейской и глобальной политике – произошло также смещение фокуса исследовательского интереса историков. Крушение многонациональных Советского Союза и Югославии, обострение национальных противоречий во многих регионах Европы и мира заставили обратить внимание на те явления, которые многим казались «списанными» с исторической повестки дня – национализм и, чуть позже, империи. В случае с монархией Габсбургов углубленное изучение двух этих феноменов практически сразу привело к позитивизации образа империи – причем дважды, из различавшихся и даже отчасти противоположных перспектив.
Уже с рубежа 1980–1990-х годов Дунайская монархия, еще недавно фигурировавшая лишь в качестве обреченной на распад «тюрьмы народов», стала заявляться как пример их, пусть и не беспроблемного, но сосуществования, а также как своеобразная историческая лаборатория по выработке различных вариантов решения «национального вопроса». Уже в мае 1989 года на одной из конференций в Институте славяноведения и балканистики РАН предлагалось устранить «односторонность прежних представлений о национальных процессах в Дунайской монархии»; не «объективно неизбежный крах», а наличие «нескольких вариантов развития этого многонационального государства» – вот что становилось новым вектором исследований. «Пришла пора заменить образ Австро-Венгрии как “тюрьмы народов”… на многомерное изображение», – призывал Т. М. Исламов, ведущий советский историк-унгарист. При этом советские, а затем и российские историки не просто воспринимали позитивные оценки монархии Габсбургов, присутствовавшие в трудах таких известных западных ученых, как И. Деак, Б. Елавич, Ф. Р. Бридж, А. Скед.

В отличие от многих западных коллег, с самого начала создававших комплексные, интегральные исследования монархии Габсбургов, часто двигаясь, так сказать, «от империи к нации», российские исследователи шли, скорее, «от нации к империи». И это неудивительно, поскольку в дореволюционной и в еще большей степени советской историографической традиции практически отсутствовала школа изучения Австро-Венгрии как самостоятельного объекта, так как в фокусе зрения преимущественно оказывались «освободительные движения» составлявших ее народов.
Таким образом, идя «от нации», российские историки 90-х годов ХХ века видели и в самой монархии Габсбургов в первую очередь многонациональное государство, поэтому в центре их внимания находились пути и методы решения национальной проблемы. Тому же были посвящены и труды многих западных историков, начиная еще с фундаментального исследования Р.А. Канна в 50-е годы.
Все громче заявлявшая о себе с 90-х годов проблематика феномена империи (imperial turn, как его называет ряд историков) привела к весьма существенному смещению акцентов в изучении монархии Габсбургов, которая отныне все чаще представала не столько как многонациональная, сколько как наднациональная держава. Подобный подход весьма отличался от описанного выше. В первом случае бум изучения национализма поставил понимание этого феномена на принципиально иную основу и позволил применить полученные новые подходы к проблематике национального в рамках Дунайской монархии. При этом в исследованиях национализма хотя и присутствовала рефлексия современных политических событий, нельзя говорить о какой-то телеологической заданности или об историческом инжениринге.
В проблематике же империи, напротив, эти элементы присутствовали весьма ощутимо. Само появление «имперского поворота» являлось в известной степени откликом на бурно развивавшиеся с 90-х годов ХХ века наднациональные процессы, в первую очередь глобализации и интеграции.
Таким образом, как отмечает, в частности, американскиий социолог К. Барки, отныне империи оказываются поставщиками «ценных исторических аналогий» для понимания текущей ситуации. При этом Дунайской монархии достается роль своеобразного прообраза нынешнего Европейского союза: «В федералистской истории монархии Габсбургов мы читаем предысторию сегодняшней Европы», – утверждает в недавно опубликованной книге немецкий историк Я. Остеркамп. Таким образом своеобразная историческая реабилитация монархии Габсбургов происходит уже с иного угла зрения, когда национальный вопрос в значительной степени отступает на второй план, уступая место политологической перспективе отношения центра и периферии, теории федерализма, проблематике имперской репрезентации, идеологии, наконец, собственно определению места и специфики этой страны как империи, начиная с ответа на вопрос, была ли она вообще таковой.
Несмотря на то что в настоящее время большинство историков склонны на последний вопрос отвечать положительно, основания для дискуссий на эту тему, безусловно, присутствуют. При всем разнообразии понимания и определений того, что, собственно, является империей, в целом с этим феноменом связываются представления о больших размерах, наличии безусловного центра, который контролирует разнородную в культурном отношении периферию. Важным условием стабильности империй считается их убедительная саморепрезентация, позволяющая подданным идентифицировать себя с ней. В социальном же отношении принципиальное значение имеет союз центральной и местной элит, в рамках которого местные элиты помогают контролировать соответствующую территорию в обмен на сохранение своих позиций. Со многим из этого у Габсбургов были проблемы.
В силу комплексности и разнородности территорий одной из самых важных сторон существования империй является повышенная потребность в легитимации центральной власти. В случае с монархией Габсбургов проблемы здесь начинались с самого элементарного – с названия страны, которое позволило бы народам и отдельному человеку думать о себе, как о ее частице. Отталкиваясь от своих преимущественно немецких «наследственных» земель, исторически монархия Габсбургов складывалась как конгломерат различных владений династии, «собрание корон», объединенных общим монархом. Недостатку фактической внутренней интеграции – ведь, по образному выражению австрийского историка Э. Брукмюллера, «Габсбурги проглотили уже второй и третий кнедлик (богемские и венгерские земли) до того, как был переварен первый (немецкий – А.М.)» – соответствовала ситуация с обозначениями. Вплоть до 1918 года Габсбурги правили как эрцгерцоги Австрии, короли Богемии и Венгрии, маркграфы Моравии и т. д., государство же как целое долгое время не имело общего обозначения, фигурируя как «земли, находящиеся под властью дома Австрии». Действительно корректными на протяжении всего существования монархии Габсбургов выступали обозначения, определявшие совокупность принадлежавших им земель через правящую династию, поскольку именно она была конституирующей и государствообразующей силой – «монархия Габсбургов», «государство Габсбургов», «Дунайская монархия». Главная проблема австрийской истории заключается как раз в том, что, возникнув во многом как типичная для Раннего Нового времени составная монархия (composite monarchy), монархия Габсбургов и в дальнейшем испытывала значительные трудности с консолидацией и интеграцией своих владений.
Даже после провозглашения в 1804 году Австрийской империи, когда, казалось бы, страна, наконец, обрела общее для всех частей название, оно являлось не бесспорным из-за особого положения Венгрии, поскольку два соглашения с короной венгерских сословий – Прагматическая санкция 1713 года и знаменитый Х закон венгерского Государственного собрания 1791 года (по своему смыслу и даже названию «De Independentia Regni Hungariae» мало чем отличавшийся от декларации о суверенитете) ‒ заявляли о Венгрии как о практически самостоятельном государстве.
С образованием в 1867 году Австро-Венгрии, в рамках которой две страны связывали лишь фигура монарха и так называемые «общие дела» – министерство внешней политики, военное и созданное для их обслуживания министерство финансов, – проблема общего наименования лишь обострилась.
С одной стороны, венгры категорически протестовали против использования слова «рейх», видя в нем ущемление своей независимости (результате установилась такая практика, что если рескрипты монарха или другие указы были адресованы Венгрии, то слово «рейх» заменялось словом «общий», в остальных же случаях применялось слово «рейх»). С другой – возникали проблемы с общим наименованием даже двух частей империи: восточная половина Австро-Венгрии в несравненно большей степени была «Венгрией», чем западная «Австрией». «Мы – Австро-Венгерская империя; ее восточная часть называется Венгрией, но как называется западная? Мы не знаем этого, у нас нет имени…» – жаловались немецкие депутаты.
Ни официальное «королевства и земли, представленные в рейхсрате», ни неофициальное «Цислейтания» (т. е. «по эту сторону Лейты», реки, отделявшей западные земли от венгерской половины – «Транслейтании») не могли, разумеется, описать этот конгломерат 17-ти «коронных земель» в качестве некой целостности, и никакого гордого «я – цислейтанец» не существовало. Лишь постепенно с этими землями стало связываться понятие «Австрия» (официально – только с 1915 года).
Проблема репрезентации империи, однако, далеко не исчерпывалась только названиями. Для создания некой общеимперской идентичности необходимы общие символы, политика памяти с классическим «мифом основания», выделением символических фигур и знаковых событий. Если аллегорическая «Аустрия», в отличие от, например, французской «Марианны», была мало востребованной в качестве интеграционного символа, то легендарная осада турками Вены 1683 года, фигуры Евгения Савойского и Марии Терезии активно пропагандировались различными медиумами в качестве важнейших моментов «общеимперской истории». Вместе с тем набор подобных символов был ограничен. Некоторые яркие фигуры Габсбургов оказались в этом смысле непригодными из-за различия того исторического следа, который они оставили в памяти отдельных народов. Например, Иосиф II, в качестве «немецкого» императора поднимаемый на щит в западных провинциях, категорически отвергался в Венгрии. Так что, почти иронически, главным воплощением имперского единства стал Франц Иосиф, едва ли не самый бесцветный из Габсбургов, каждый из юбилеев долгой жизни которого фактически превратился в главный способ саморепрезентации империи.
Основная проблема тем не менее заключалась не в дефиците символов и не в недостатках государственной пропаганды, а в наличии сильной альтернативы ей. Пять из одиннадцати народов Австро-Венгрии – немцы, венгры, чехи, поляки и хорваты – принадлежали к так называемым «историческим нациям», т. е. в прошлом обладали самостоятельной государственностью, к которой могла апеллировать их историческая память. Так, едва ли было возможным противопоставить хоть что-либо венграм с их эпосом об «обретении родины» и галереей национальных героев длиной в тысячу лет.
Помимо содержательной стороны имперской идеи сложной оказывалась и проблема ее носителей. Традиционно важным выразителем австрийского патриотизма была аристократия, в качестве идеального типа которой может фигурировать главный персонаж одного из рассказов Йозефа Рота: «…как и многие другие люди его сословия в коронных землях Австро-Венгерской монархии, он являл собой типичный образец чистоты и благородства австрийца, то есть был человеком наднациональным». Безусловно «черно-желтыми» (по цвету имперского флага) являлись также офицерский корпус и особенно бюрократия – «нация надворных советников», по ироническому выражению Э. Брукмюллера.
Если во многих странах Европы политическая демократизация способствовала постепенному распространению национальной идеи, являвшейся изначально лишь достоянием элиты, преимущественно образованной, то аналогичный процесс в монархии Габсбургов не только не привел к расширению за пределы «нации надворных советников», но и имел скорее противоположный эффект, поскольку эмансипировавшиеся от мира традиционных представлений массы попадали под влияние быстро развивавшегося во второй половине XIX века языкового национализма.
Однако наряду с подобного рода центробежными тенденциями существовали весьма весомые векторы противоположного свойства. Так, одним из безусловных raison d’être единого государства была экономика. Хотя из-за коллизий, сопровождавших перезаключение экономической части австро-венгерского Соглашения каждые десять лет, современники и называли свою страну «монархией до расторжения [договора]», хотя периодически вспыхивали национальные движения, призывавшие покупать только национальные продукты (как чешское «свой к своему» или венгерское «движение тюльпанов»), все же нельзя не видеть, что промышленная Цислейтания и аграрная Транслейтания почти идеально гарантировали друг другу рынки сбыта. Налицо были преимущества крупного внутреннего рынка и в целом поступательное развитие экономики.
Политически же главный резон существования монархии Габсбургов заключался в том, что она служила общим домом и защитой для национальностей, слишком слабых для национальной государственности. Следует подчеркнуть, что эту идею, ярче всего выраженную в знаменитом высказывании чешского национального деятеля Ф. Палацки о том, что «если бы Австрия не существовала, ее следовало бы выдумать», разделяло большинство народов монархии Габсбургов, пусть некоторые (как поляки) лишь тактически, а некоторые (как итальянцы) не принимали ее вовсе.
Вместе с тем нельзя не видеть и того, что с началом XX века национальная ситуация в Австро-Венгрии резко обострилась, с одной стороны, в связи с кризисом системы дуализма, проявившимся и в прямом конфликте Вены и Будапешта 1905–1906 годов, и в усилившейся критике этой системы со стороны прочих народов, а с другой – в усилении сепаратистских настроений, особенно с развитием югославизма и ростом немецкого национализма.
Следует сказать, что «имперский поворот», безусловно, обогатил изучение истории монархии Габсбургов многими новыми постановками вопросов и проблематикой. Избавление от перспективы предначертанного падения государства Габсбургов позволило делать более отчетливые акценты на успехах в экономике, подчеркивать его способность к реформам, в том числе в национальной проблеме. Так, новизной отличается, в частности, недавно появившаяся концепция «корпоративной империи», подчеркивающая многообразные моменты кооперации на самых разных уровнях, начиная от примеров заимствования периферией отдельных центральных функций и заканчивая надрегиональным сотрудничеством в целом ряде сфер – промышленной, межконфессиональной, санитарной и т. д.
Вновь созданная картина далека от характеристики эпохи дуализма как времени «перманентно кризисной ситуации», данной, например, в классическом труде австрийского историка Э. Целльнера. Вместе с тем эта картина местами представляется идеализированной, кризисные явления чрезмерно обесцвеченными, а настойчивые попытки во что бы то ни стало представить монархию Габсбургов «модернистичной», объявить либеральный вектор, даже не исключая времена «системы Меттерниха» и «неоабсолютизма», ведущим на весь XIX век своей телеологической заданностью напоминают стремление советских историков везде и во всем обнаруживать классовую борьбу.
То же касается и оценки монархии Габсбургов как империи. Помимо всех уже отмеченных проблем в создании общеимперской идентичности следует назвать еще одну, имя которой – Венгрия. При всем современном увлечении имперством нельзя не видеть, что с Венгрией оно имеет четко ощутимые пределы. Так, совершенно не случайно на ее границах фактически останавливается упомянутая выше концепция «корпоративной империи», черпающая свою эмпирику практически лишь в Цислейтании. Правовая и фактическая обособленность Венгрии, ее политика по отношению к зависимым народам были таковы, что совершенно оправдывают определение, данное ей австрийским историком А. Каппелером – «субимперия», что едва ли согласуется с представлениями об асимметрии центра и периферии, характерной для империй. В целом можно согласиться с оценкой его соотечественника А. Штромайера, полагающего, что монархия Габсбургов не являлась полноценной империей, однако отдельные имперские измерения были ей вполне присущи.
«Имперскость», т. е., по большому счету, степень интеграции Дунайской монархии, тесно связана с проблемой ее распада. Особую роль здесь сыграла Первая мировая война. Размышляя о судьбах трех восточных империй, известный российский историк А. И. Миллер задается столь же справедливым, сколь и неразрешимым вопросом: «Была ли Первая мировая война лишь последним гвоздем, забитым в гроб этих империй, или гигантским потрясением, которое разрушило эти империи вне зависимости от того, были ли они на тот момент уже неизлечимо больны?».
Как представляется, сама показанная выше амбивалентность развития монархии Габсбургов говорит о том, что ее крах отнюдь не был неким предначертанием, однако едва ли можно говорить о чем-то большем, чем о сохранении некоторого шанса на будущее.