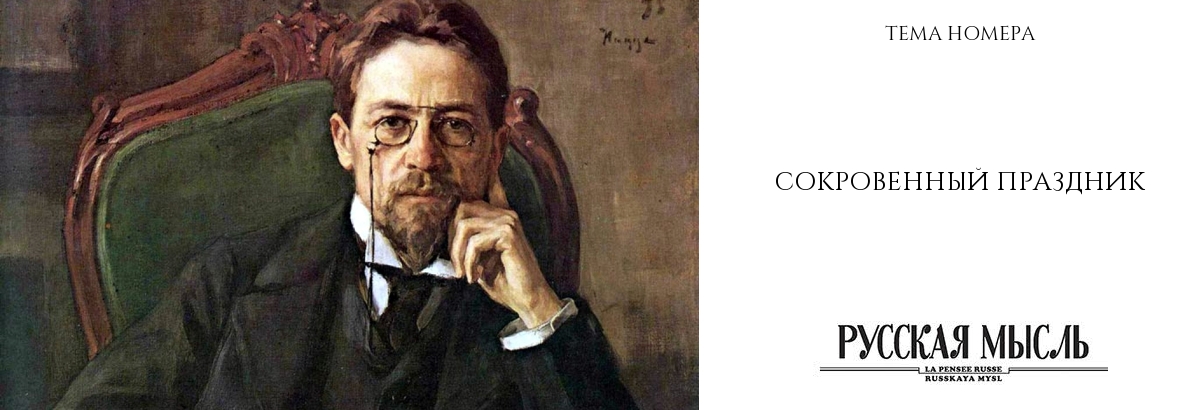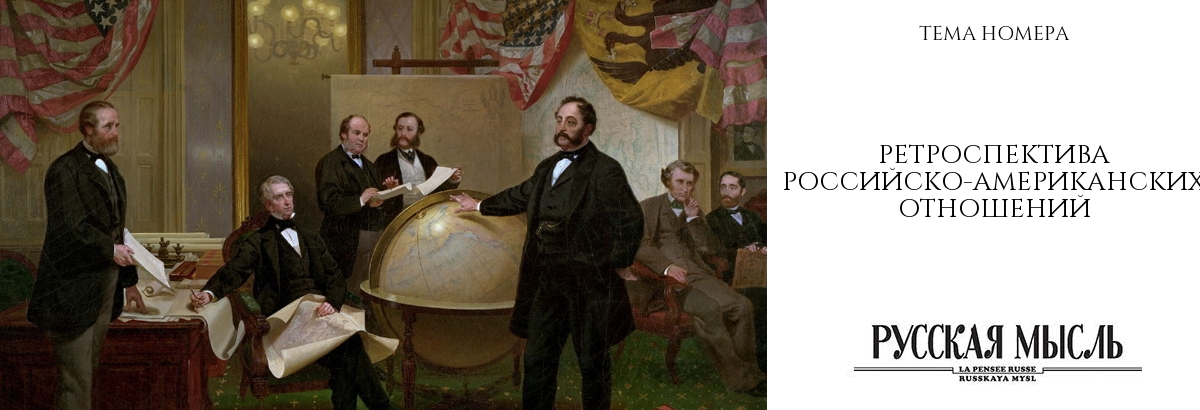Несмотря ни на какие испытания, придуманные для него временем и историей, Бунин всегда оставался самим собой
Кирилл Привалов
Поколения людские скреплены между собой в такую жесткую цепочку, что расстояние между звеньями порой очень трудно определить. Впрочем, связь времен обычно осознается нами подспудно, даже рефлекторно. Когда же лично приходится прикоснуться к этой эстафетной палочке, отшлифованной ладонями многих и многих людей, живших, трудившихся и любивших до тебя на Земле, кружится голова от ощущения вечности и преемственности Истории.
В этом номере «Русской мысли» мы будем отмечать 155-летие Ивана Алексеевича Бунина – поэта, прозаика, мыслителя. В 1933 году он первым из русских писателей стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». И еще этот выпуск посвящен тем выдающимся людям, которые ознаменовали собой в ХХ столетии отечественную культуру, а значит – и нашу жизнь. Прежде всего – современникам Бунина как в эмиграции, так и непосредственно в России. Ведь, казалось бы, разрозненный волею безжалостного времени поток российской культуры на самом деле един и неделим, он не имеет ограничений и границ – как между государствами, так и между поколениями.
…Мой отец вспоминал о своих встречах с Маршаком, поэтом и прекрасным переводчиком поэзии. Как-то Самуил Яковлевич – старинный ученик и стипендиат Владимира Стасова, одного из самых влиятельных людей в художественной жизни пореформенной России, – рассказывал о том, как в конце восьмидесятых годов прошлого столетия Стасов жил в Париже. Однажды он сидел в русском кафе на Пасси, когда в зал вошел седой статный старик.
– Здравствуйте, – сказал старик.
Никто из сидящих в кафе не ответил ему, даже не шелохнулся, голову в его сторону не повернул. Старик обвел взглядом людей, только что таких шумных, а теперь настороженных, замерших, резко повернулся на каблуках и вышел, хлопнув дверью.
– Кто это был? – спросил у товарища Стасов.
Ответ был хлестким, как удар бичом:
– Дантес!
«Вот тогда-то я почувствовал связь времен. Пушкин и я: фантастика какая-то!.. Образно говоря: нас разделяли лишь два-три рукопожатия», – завершил свой рассказ Маршак.
Схожее состояние нереальности, зазеркальности происходящего было у меня в доме у писательницы Умм-эль-Банин, жившей в Париже. В руках моих оказалась фотография: Иван Алексеевич Бунин в мягкой шляпе, несколько надвинутой на глаза, выражение лица мечтательное и надменное, усталое и ироничное. Внизу написано вечным бунинским пером: «Что перед этим ваш немецкий писатель?» (Своеобразный знак верности по отношению к Эрнсту Юнгеру, большому другу Умм-эль-Банин). А на обороте: «Позвольте, Джаным, сказать словами Карла Ивановича из “Детства” Толстого:
Помните близко,
Помните далеко,
Помните еще и навсегда,
Как верен и любить умею!
Ив. Б.
18 авг. 1946 г.
Париж».
Бунин и… я! Разве не фантастика? Но я держу в руках эту фотографию. А передо мной – та, кому она была подарена. Умм-эль-Банин – стройная, легкая, улыбчивая. Она смеется, глядя на то, как я с дрожью в руках держу этот снимок, словно хрупкую новгородскую грамоту: «Не бойтесь, открытка не развалится. Как и кресло, в котором вы сидите. Когда Бунин приходил сюда и опускался в него, оно стояло на этом же месте…»
Бунин Парижа. Париж Бунина. Бульвары, по которым он ходил, кафе, где встречался с друзьями, залы, где читал свои повести и рассказы, а реже – стихи. Мюэт, площадь Терн, Елисейские Поля… Помню, один поэт утверждал, будто взгляды людей могут отшлифовать любой камень. В таком случае на брусчатке Парижа осталось немало бунинских автографов.
«Самое трудное для российского человека в эмиграции – это остаться самим собой. К сожалению, бывает так, что писатель, бежавший из своего дома от необходимости кривить совестью, идти на сомнительные компромиссы, вынужден опять умерщвлять дух, чтобы выжить, но уже за рубежом. Одно ярмо заметно или нет сменяется другим… Меня, к счастью, чаша сия миновала».
Слова эти, сказанные в Париже Андреем Синявским, относятся, по-моему, и к Ивану Бунину. Несмотря ни на какие испытания, придуманные для него временем и историей, Бунин всегда оставался самим собой. Каким? Вот что пишет об этом Умм-эль-Банин в своей книге «Последний поединок Ивана Бунина»: «Маленький зал Дебюсси с трудом вместил всех многочисленных поклонников Бунина. Страфонтены (откидные кресла – К.П.) брали с бою: пришлось поставить стулья даже на эстраде…
Теснота в зале меня не касалась, поскольку я пользовалась благосклонностью Бунина, то мне было предоставлено кресло в первом ряду, как раз напротив чтеца. Прямой, как свеча, внушительный, как король, он величественно появился в зале и был встречен громом аплодисментов. Снежная белизна волос, изысканная элегантность сообщали ему неотразимое обаяние. Когда он начал читать, я еще больше пришла в восторг: голос, чересчур громкий в моей маленькой комнате, здесь был в самый раз. Он достигал всех уголков зала, гудел, как труба, увлекал и нас, и его самого. Под взглядами обожателей Бунин возвышался и царил…
Бунин не злоупотреблял восхищением слушателей и не затянул чтения, как на его месте сделали бы другие. К тому же он читал безукоризненно: не слишком быстро, не слишком медленно, у него была отличная дикция, он никогда не впадал в напыщенность: читал так же сдержанно, как писал. Вечер кончился триумфом и овациями. Монарх, отвечающий с балкона на приветствия подданных, не мог бы кивать толпе с более царственным величием, чем Бунин».
Барин, самовлюбленный и постоянно рефлексирующий, – таким предстает Бунин во многих мемуарах. Причем в позе Бунина не было ничего от записной знаменитости, какой, казалось бы, он мог чувствовать себя после присуждения ему Нобелевской премии. Все было совершенно естественно, ибо не могло обстоять иначе.
«И до эмиграции, и после отъезда из России, и до Нобелевской премии, и после ее присуждения Бунин, в сущности, оставался одним и тем же, – рассказывала мне в Париже прекрасная писательница, тоже эмигрантка, Нина Николаевна Берберова. – Милейшим представителем старой России. Он напоминал моего дедушку, даже не родителей. Их я видела в контексте революций – сначала Февральской, потом большевистской. Бунина же представить не могла. Он был не стар, но старомоден…»

Да, Иван Алексеевич и сам больше причислял себя к поколению Ивана Тургенева и Льва Толстого, нежели к поколению Максима Горького и Викентия Вересаева. Может, именно в этой «старомодности» и заключался секрет избранничества Бунина, который мы с особой силой начинаем постигать сейчас? Сейчас, когда – наверное, без преувеличения – и недели не проходит без цитирования в разного рода российских СМИ «Окаянных дней». В том числе и избранничества Бунина как поэта. (Мне кажется, что эту сторону гения Бунина мы еще недостаточно оценили: не потому ли, что как поэт он больше принадлежит к поколению Федора Тютчева, нежели к своим современникам?). Поэта-лирика, философа, пророка:
Ходили в мире лже-Мессии, –
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам – их литургии,
Их речь – бряцающий кимвал.
Задолго до «окаянных дней» – до «раскулачивания», до «чисток», до Гулага – написал он эти строки. Увы, во многом вещие.
В отличие от Горького, Куприна, А.Н. Толстого, Бунин не вернулся на родину, несмотря на шарм и увещевания московских гонцов, настоятельно и хлебосольно уговаривавших его (достаточно назвать хотя бы Константина Симонова и его жену актрису Валентину Серову). Не вернулся никогда, даже визитером-туристом. В этой непримиримости – тоже вызов Ивана Бунина, написавшего в октябре 1952 года, незадолго до смерти, в предисловии к своей книге «Роза Иерихона», вышедшей в Чеховском издательстве: «Я был не из тех, кто был ею (революцией – К.П.) застигнут врасплох, для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все же действительность превзошла все мои ожидания: во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия…»
И еще из «Окаянных дней»: «Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой “неурядицей и нелепицей”»…
Бунин был откровенно брезглив к любой форме насилия, к грубости, к унижению. В короткой, но такой проникновенной статье «О Бунине», напечатанной в парижском эмигрантском журнале «Возрождение» к десятилетию кончины писателя, Зинаида Алексеевна Шаховская, известный литератор и общественный деятель русского зарубежья, вспоминала о том, как Иван Алексеевич, «заслуженно рассвирепев на гитлеровских таможенников, раздевших его догола на границе», попросил Шаховскую, еще не бывшую тогда главным редактором «Русской мысли» (она стала им в конце шестидесятых), «обнародовать это бесчинство в прессе». Позднее, после выхода «Темных аллей», он подарит писательнице один из первых экземпляров этой книги, сопроводив его надписью: «“Декамерон” написан во время чумы. “Темные аллеи” в годы Гитлера и Сталина – когда они старались пожирать один другого».
Впрочем, сталинские власти платили Бунину взаимной «любовью». После неоднократных попыток убедить первого российского нобелевского лауреата по литературе вернуться домой на волне послевоенного патриотизма, закончившихся ничем, во втором издании Большой советской энциклопедии, первые тома которой вышли в начале пятидесятых, о писателе заявили, что он одержим «совершенно бешеной ненавистью к Советской России».
И все-таки не в силах сталинских церберов было отлучить писателя от России. Единственно, как им удалось отомстить Бунину, болезненно переживавшему запоздалую славу, которая пришла к нему на чужбине, – это лишить его права быть похороненным на родной земле. Но есть в этом посмертном наказании совершенно не подвластная диктаторам логика. Бунин спит вечным сном в окружении если не близких ему людей (гений всегда одинок), то тех, кто причастен к нему и своей судьбой, и своим талантом: Ремизова, Шмелева, Зайцева, Тэффи, Георгия Иванова, Алданова, Саши Черного… Список можно долго продолжать. Если не зарастает народная тропа к маленькому припарижскому городку Сент-Женевьев-де-Буа, то это прежде всего потому, что на его муниципальном кладбище похоронен Иван Бунин. Далекое и прекрасное созвездие светил русской литературы и из другого мира продолжает дарить россиянам свое тепло, и главная планета в этой невероятной галактике – он, Иван Алексеевич Бунин. Не потому ли утверждают, что на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа неповторимая атмосфера, особое биополе, что ли?

…Мы выбрали каждый по приглянувшемуся горшку (живые цветы класть на могилы в Сент-Женевьев-де-Буа запрещается). Виктор Петрович Астафьев, приехавший из Москвы, – с хризантемами, я – с верониками. Так и пошли на позолоченный осенью погост. Русское кладбище стояло в туманной октябрьской неге. Суббота: церковь с утра закрыта, людей почти не видно… Мы шли по аллейке, и чем дальше уходили вглубь, тем тревожнее и напряженнее становился старый писатель. Я чувствовал эту напряженность, но сперва отнес ее за счет возраста. Подумал: Астафьев как человек, стоящий по годам гораздо ближе к последнему берегу жизненной реки, чем к первому, невольно настраивается на кладбище на скорбно-философский лад. Но показалась могила Бунина, Виктор Петрович бросился к ней, как жаждущий к роднику, и я понял, что ошибался.
– Вот ты где спишь, Иван Алексеевич… Вот оно как получается… – Астафьев застыл у маленькой серой могилки. Замолчал. Мне показалось, что ему хочется остаться одному, и я отошел в сторону. – Да-да, иди! – Благодарно кивнул писатель. – А я здесь останусь.
На углу аллеи я обернулся и увидел, как Астафьев стоял, крепко вцепившись руками в гранитное ребро креста, и словно пребывал в оцепенении. Первым стремлением было броситься на помощь. Словно четырехконечный, с мальтийским разлапистым силуэтом крест на могиле Бунина мог, будто статуя Командора, затащить в царство теней. Но потом до меня дошло: напротив – Астафьев черпал силу в шероховатом камне, теплом от осеннего солнца. Всю свою жизнь он шел на встречу с Буниным, и вот она состоялась.
Белесые, желтые, красные листья падали на присыпанные кирпичом дорожки, на тесные ряды надгробных плит. Просеменил мимо отец Силуан – ангельская душа, кладбищенский священник-эмигрант, с трудом толкая свой неизменный мопед. Прошумела стайка мальчишек-французов, собирающих грибы, которые обильно растут на русских могилах…
Когда я вернулся, Астафьев стоял все в той же позе, прикрыв глаза. Лишь шевелились губы. Молитву читал? Или бунинские стихи?
…Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль.
То, что я от всех таю…
Холод, блеск, мистраль.
Астафьев услыхал мои шаги и очнулся:
– Нет ли случайно бумажки? Клочка какого-нибудь?

У меня оказался в кармане блокнотный листок. Писатель взял его и начал перерисовывать могилу Бунина. Шариковая ручка дрожала, рисунок получался весьма приблизительный, но основные контуры выходили верными.
– Эх, позор какой! Надо было мне, старому дураку, прихватить с собой из дома хоть горсть земли, хоть бы веточку какую-нибудь, чтобы на могиле оставить…. Дома будут спрашивать, как там Иван Алексеевич. – Астафьев надвинул колпачок на ученическую ручку и опять погрузился в молчание.
Мы постояли в тишине, изредка прерываемой клаксонами недалеких автомобилей, и Виктор Петрович Астафьев принялся прощаться:
– Спи спокойно, Иван Алексеевич! Прощай, русская душа.
Он перекрестился, преклонил колено здоровой, не перебитой на фронте ноги и бережно прикоснулся губами к камням гранитной окантовки:
– Прощай, дорогой наш человек!.. Прости, Христа ради, – за свои грехи и за наши.