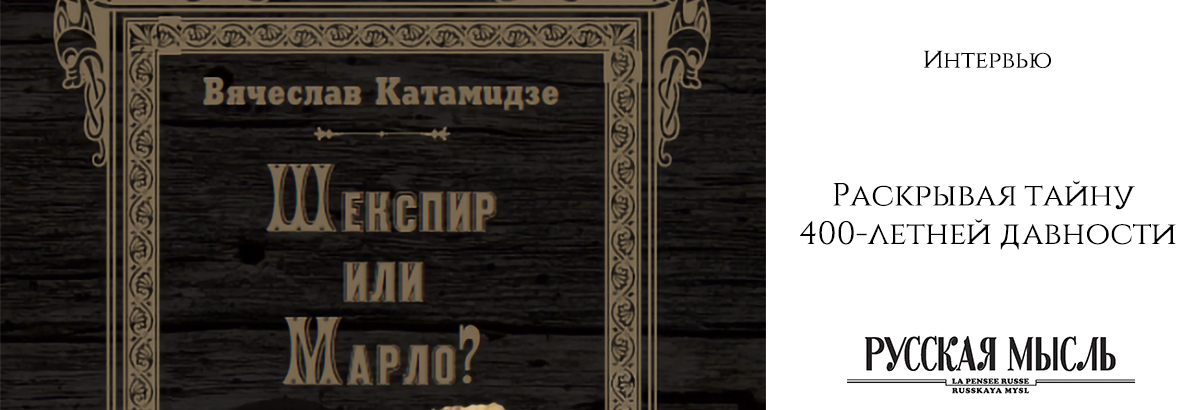Беседу вела Ирина Кукота
Наталия Григорьевна Маева – выдающаяся актриса Нового драматического театра, последовательница метода Вахтангова. Можно сказать, что она олицетворяет собой все лучшее, что есть в традициях русской актерской школы: тонкое чувство слова, интеллигентность и внимательность к собеседнику, веру в высокое призвание актера и внутреннюю аристократичность.
Наталья Григорьевна получила актерское образование в театральном училище им. Б.В. Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. В числе ее педагогов была знаменитая вахтанговская романтическая актриса Цецилия Мансурова, которая первой сыграла роль принцессы Турандот.
Окончив училище, Наталия Маева некоторое время проработала в Московском театре комедии, где сыграла множество ролей русского и европейского репертуаров. В 1993 году она приняла приглашение присоединиться к труппе Нового драматического театра Москвы под руководством режиссера и народного артиста России Бориса Александровича Львова-Анохина. Он часто бывал в Лондоне и любил Англию; им восхищались многие представители английской театральной и интеллектуальной элиты. Из Лондона Львов-Анохин привез в Москву пьесу Майкла Редгрейва по новелле Генри Джеймса «Письма Асперна». Роль Тины в этой пьесе, пожалуй, принесла Маевой наибольшую известность и стала для нее знаковой. Через некоторое время Львов-Анохин поставил для нее моноспектакль «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто.
Наталия Григорьевна разделяла интерес и любовь к английской культуре, присущие Львову-Анохину. Может быть, именно поэтому она пользуется столь большим успехом у публики в Великобритании. Несколько раз в год Наталия Григорьевна приезжает на гастроли в Англию и выступает в Лондоне, Кембридже, Оксфорде и других британских городах. В 2017 году лондонская публика имела возможность увидеть Маеву в моноспектакле «Человеческий голос» в RADA – Королевской академии драматического искусства. Нам же посчастливилось встретиться с актрисой сразу после ее выступления перед экспертами в области русского искусства в лондонском аукционном доме Bonhams. Поскольку Наталия Григорьевна представляла программу поэзии Серебряного века, то наша беседа началась именно с этой темы.
Наталия Григорьевна, вы всегда включаете в программу своих выступлений поэзию Серебряного века. Чем она вам так близка?
Поэты Серебряного века близки мне прежде всего своей невероятной, абсолютной музыкальностью, звучностью, языковым мастерством и способами осмысления ткани стиха.
Возьмем, к примеру, Николая Гумилева, поэта очень непростой, трагической судьбы. Сегодня этот блистательный теоретик стиха предан забвению. В 1990-е наблюдалась вспышка интереса к его творчеству, но потом она миновала. Сам Гумилев говорил о том, что он ломает и меняет ритм, создает в стихотворениях новые паузы. Все это само по себе создает основу стиха. И совершенно не случайно Маяковский обожал «Капитанов» Гумилева.
А как вообще появилась ваша программа, посвященная Серебряному веку, и по какому принципу она выстроена?
Мне посчастливилось в свое время случайно встретиться с Георгием Александровичем Товстоноговым в Доме актеров в Сочи. Он тогда восстанавливался после операции, ему нельзя было плавать. Я была в отпуске и везде ходила с большим томом Цветаевой. Так мы и начали общаться. Он выстроил для меня программу поэзии Серебряного века. И я каждый раз перед началом выступления говорю, что программу составил Георгий Александрович Товстоногов.
Для Георгия Александровича поэзия Серебряного века представляла огромный интерес. Я выступала с его программой в университете МГУ, в Доме актера, в различных театрах. Как-то между мной и Георгием Александровичем произошел разговор, к которому я постоянно возвращаюсь. Он всегда останавливался в «Метрополе» и однажды позвонил мне с просьбой: «Наташа, а вы не могли бы почитать поэтов Серебряного века ПТУшникам»? Ошеломленная, я спросила: «Георгий Александрович, а как?» А он ответил: «Ну, вот вы пойдите в какое-нибудь ПТУ и скажите, что я попросил». Я жила на Малой Грузинской, рядом с Пресней. Пришла в соседнее ПТУ к директору с просьбой: «Георгий Александрович Товстоногов просил, чтобы я прочла у вас программу стихов». В ответ у меня поинтересовались, знаю ли я, какие там учащиеся, но группу все же собрать пообещали.
Я тогда еще последовала рекомендации Бориса Александровича Львова-Анохина, который говорил: «Вот вы приходите с улицы, и зрители еще пребывают в своем ритме, – и для того, чтобы их настроить, пусть будет немного Шопена и букет цветов». Итак, играет Шопен, стоит букет цветов. Зал полон двадцатилетних ребят. Они слушали мое выступление два часа подряд, замерев. Даже «Поэму конца» Цветаевой! Потом я звонила Георгию Александровичу и сообщала, что ни один человек не ушел, все слушали не шелохнувшись. На что он мне ответил: «Русский человек слышит слово. И даже если они не все поняли, они услышали, и они это запомнят. И дальше кто-нибудь из них прочитает эти стихи».
Великолепная история о преображающей силе искусства! Расскажите, пожалуйста, как у вас появилось желание стать актрисой?
Когда я была совсем маленькой девочкой, я увидела, как Галина Уланова танцует «Жизель». А потом она меня поразила в балете «Ромео и Джульетта»: помимо того, что Уланова была гениальной балериной, она еще была и великой драматической актрисой. После «Ромео и Джульетты» я шла и плакала. И не знала, отчего я плачу и почему. Я вообще плачу редко. Но эта история меня потрясла. И уже много позже, по счастливому совпадению, я попала в театр, в котором художественным руководителем и главным режиссером был Борис Александрович Львов-Анохин, который в возрасте двадцати пяти лет написал об Улановой потрясающую книгу. Окончив школу, я поступила в Щукинское училище в тот самый год, когда конкурс составлял 500 человек на место. На нашем курсе училось 6 девочек и 19 мальчиков. Образование нам давали, как в университете.
Кто были вашими педагогами? Вы ведь учились у актрисы Цецилии Мансуровой?
Нам просто повезло, потому что все мы учились у педагогов, которые очень многое нам рассказывали, передавали и могли многому научить. У нас преподавал тогда Павел Иванович Новицкий – великий литературовед и великий педагог. В свое время он был ректором Литературного института имени А.М. Горького. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина – все его ученики. Но его как космополита сняли с этого поста. А Борис Евгеньевич Захава не побоялся пригласить Новицкого в Щукинское училище, и ему разрешили преподавать. Евтушенко и Вознесенский не вылезали из нашего училища – они приходили к нему на лекции и на наши студенческие спектакли.
Павел Иванович очень многое нам дал. Он говорил нам, семнадцатилетним студентам, что когда внутренне плохо, то лучше выхлестнуться на бумагу, написать, как себя чувствуешь. Не обманывать себя, а выразить все свои чувства. И тогда человек может внутренне сохраниться и не озлобиться. В жизни актеров могут быть любые ситуации, и прежде всего надо сохранить душу. «Озлобленный артист – нищ!» – часто повторял он. Кстати, наверное, поэтому все, кто учился у него на курсе, пишут: и Людмила Максакова, и Вениамин Смехов, хотя никто к этому как к литературе или журналистике не относится. Но чувство слова есть у всех. И все это благодаря Павлу Ивановичу.
Еще мне посчастливилось учиться у Цецилии Мансуровой. Она на всех своих ученицах оставила свою печать. Это особенно видно по Людмиле Максаковой. Цецилия Львовна была любимой ученицей Вахтангова, а Вахтангов, как вы помните, – любимый ученик Станиславского. Рыжая красавица, она была ранее женой графа Шереметева, который и остался из-за нее в России, и погиб из-за этого. Помимо того, что она была гениальной актрисой, при всей своей экстравагантности, она умела и знала как помочь другим. Особенно нам, девчонкам: кому-то сунуть деньги, кого-то пожалеть, кому-то что-то подсказать. Она учила нас всему: как надо одеваться, как следует выглядеть, учила, что актриса должна быть не только по-школьному внимательной, но и внимательной вообще. Она всегда была праздничной, элегантной. У нее даже была своя гимнастика, чтобы сохранять стройность и подвижность на сцене. Цецилия Львовна учила нас глубине, учила тому, что нужно быть объективной, но в то же время и не бояться необъективности.
Еще я помню ее слова, что когда встречаешь талантливого человека, надо этому радоваться и воспринимать это как подарок судьбы. И когда тебе очень хорошо, не пропускать этот момент, а обязательно себе заметить: «Мне сейчас хорошо».
В книге «Турандот» о ней много пишут Василий Лановой и Юрий Яковлев. Есть там и моя статья: я записывала все, чему Цецилия Львовна нас учила.
В чем вам видится суть профессии актера?
Я закончила Вахтанговскую школу. У нас в училище висел плакат со словами великого Щепкина: «Священнодействуй или убирайся вон!» Сам Вахтангов, умирая, поставил блестящий спектакль «Принцесса Турандот». Несмотря на предчувствие конца, он, репетируя, все время говорил: «Выше, веселее!» Он всегда утверждал, что в театре должен быть праздник, должны быть надежда, радость. После моих спектаклей мне порой звонят и говорят: «Ты знаешь, Наташа, месяц – другое настроение». И этому меня учили мои педагоги.
Все поэты Серебряного века погибли. И если я начну говорить, что самая счастливая из них – Ахматова, у которой муж – в могиле, а сын – в тюрьме, то тех, кто сидит в зале, охватит уныние. Я говорю, что у всех поэтов очень тяжелые судьбы. И для нас, для России, для русских – это большое горе. Но в их жизни было при этом и много счастья: у них была любовь, они ссорились, они мирились, давали друг другу пощечины и были живыми людьми. И я начинаю с начала, а не с конца. И конец с началом нельзя путать, потому что когда печатают тюремные фотографии Мандельштама в профиль – это, по-моему, неверно. Прежде всего потому, что он поэт света, поэт музыки. И нельзя сводить судьбу и жизнь поэта только к его трагической смерти.
Наталия Григорьевна, с чего началось ваше сотрудничество с Борисом Александровичем Львовым-Анохиным?
Наше сотрудничество началось с того, что в первой книге «Турандот» была опубликована моя статья о Цецилии Мансуровой. Книгу предваряло предисловие Львова-Анохина, который очень Мансурову любил и был на всех ее спектаклях. Его мать очень хорошо знала графа Шереметева – они были людьми одного круга. Львов-Анохин бывал на наших выпускных спектаклях и знал меня еще со времен училища.
Как вы запомнили свою работу над ролью в «Письмах Асперна»?
Львов-Анохин приехал в Англию и взял у Майкла Редгрейва эту пьесу для Елены Александровны Гоголевой, чтобы поставить ее в Малом театре. Но она вскоре умерла, и тогда Львов-Анохин стал ставить «Письма Асперна» в нашем театре. А у нас была замечательная актриса с особенной судьбой – Евдокия (Эда) Юрьевна Урусова из рода князей Урусовых. Она семнадцать лет сидела в лагерях только по причине своего высокого происхождения. Но будучи осужденной совершенно безвинно, она не ожесточилась и не озлобилась, даже несмотря на то, что она отморозила в лагерях ноги. Однако никто об этом не знал: когда она шла в Доме актера под руку со своим сыном Юрием Михайловичем, никто даже не догадывался, что ей невероятно трудно ходить.
Она сидела на всех репетициях, но когда Борис Александрович говорил ей: «Эда Юрьевна, я вам сделаю замечание, и вы поедете», она всегда отвечала отказом и слушала все по порядку, терпеливо дожидаясь своей очереди. Они прекрасно понимали друг друга с Борисом Александровичем – он все же по рождению был князь Львов. И даже несмотря на то, что он был очень демократичен, в нем чувствовался этот аристократизм.
В пьесе «Письма Асперна» Эда Юрьевна играла мадам Бордеро – и играла гениально. И даже если бы она просто молчала, а ее возили на коляске по сцене, то и этого было бы достаточно, чтобы передать характер ее героини. Само присутствие ее было знаковым. Очень много англичан приезжало смотреть этот спектакль, и им он нравился. Это было точное прочтение и Генри Джеймса, и той пьесы, которую создал Редгрейв. И я уверена, что даже в Англии не было такой мисс Бордеро, как Эда Юрьевна, с ее аристократично-уголовным прошлым. И когда она умерла, то Львов-Анохин снял этот спектакль. Несмотря на осаждавших его актрис из Малого театра и МХАТа, несмотря на то, что в ситуацию вмешалось Министерство культуры. Он не мог не снять эту постановку – настолько, видимо, она попадала и в его болевую точку. Впрочем, сам спектакль остался в съемках, в записях, в памяти.
Борис Александрович поставил «Письма Асперна», когда в России было модно все выворачивать наизнанку. И для него это было возможностью донести до публики, что не все человеку позволено, что есть высшие принципы. Каким-то своим режиссерским и актерским чутьем Львов-Анохин мог сделать так, что этот посыл попадал прямо в сердце. В спектакле есть сцена, когда я сжигала письма, – и весь зал замирал. Была большая пауза, за которой потом следовали аплодисменты. Он мог мизансценой, словом передать свои мысли и чувства.
Имея опыт работы с такими одаренными, гениальными режиссерами, что вы можете сказать о русском театре?
Мне кажется, что сегодня театр находится на перепутье. Но если вы ждете от меня определения, то в моем понимании русский театр – это современная форма при абсолютной психологической подлинности. Когда мы приезжаем в Англию, мы ощущаем, что англичане ждут русского театра, русских актеров. Они ждут эмоциональности, культуры актерской игры, они любят Станиславского, русскую классику. При этом русский театр, русская драматургия – это высокое искусство. И всегда надо помнить, что русский психологический театр требует определенного уровня высокой культуры. Ты не сыграешь «Трех сестер» Чехова, если ты малообразован.