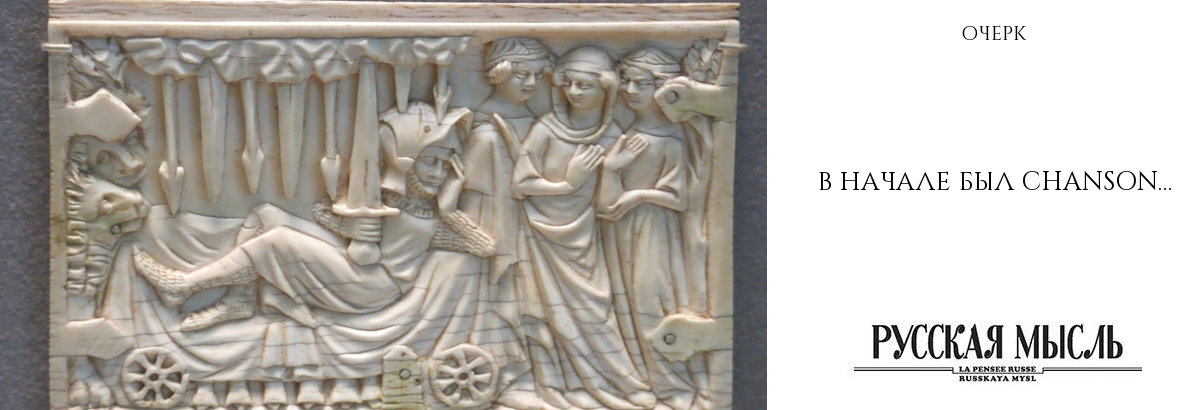«Русская мысль» начинает публикацию очерков об истории французской песни
Кирилл Привалов
Французская песня – особый род искусства. Какой? Однозначного ответа не существует. Это и очаровывающая вас мелодия, и настоящая поэзия, и поистине неповторимый шарм исполнителя или исполнительницы… Иными словами: шансон всегда шансон! Ведь не зря утверждал Пьер-Огюстен Карон де Бомарше, что все в жизни кончается песней.
Искусство, открытое всем, или Эссе о шансоне на все времена
Для начала несколько смысловых уточнений, дабы избежать в дальнейшем двусмыслицы и недоразумений. Так уж произошло (и не будем искать ответственных), что, как и в известном романе Джорджа Оруэлла «1984», многие понятия о песне приобрели в России совсем иные, если не противоположные, значения. Как и почему это получилось – отдельный разговор. Меня же больше интересует, что надо сделать, дабы в этом эссе, как говорят французы, «кошка называлась кошкой». Другими словами: чтобы вещи носили собственные, а не чужие имена.
Итак, начнем с понятия «шансон», приобретшего на российских просторах – будем искренними – откровенно блатной характер. Неспроста один из блогов любителей французской песни стыдливо окрещен: «Шансон в лучшем смысле слова». И все потому, что другой блог, надо признаться, более популярный, называется «Шансон для братвы». В музыкальных словарях толкование понятия «шансон» дается весьма конкретно. Это слово, применяемое к самым различным историческим и жанровым видам французской песни. Как точно напишет гамбургский «Штерн»: «Французы подчас не делают разницы между политическими новостями и шансоном. Шансон был и остается во Франции политическим и социальным явлением первой величины. Этот жанр – самое верное отражение настроений народа». Добавлю только: доступность песни для восприятия вовсе не снимает серьезности ее разговора со слушателями.
Определимся и с понятием «бард». У древних кельтов, заселявших две тысячи лет назад и далее в глубь времен огромные пространства Европы (от Шотландии до Карпат), существовала особая каста жрецов. Барды – жрецы-сказители, хранившие и устно, в песне, передававшие из поколения в поколение кельтский фольклор и рассказывавшие о «делах давно минувших дней». Это была замкнутая, весьма почетная каста священнослужителей, а заодно и летописцев… То есть вовсе не авторы-исполнители в джинсах и с гитарой, как сейчас представляют бардов на российских пространствах. Да простит меня любимый мной когда-то автор-исполнитель Юрий Визбор (кажется, с его легкой руки было запущено понятие «бард» после появления в СССР в 60-е годы радиопередачи о «бардах и менестрелях»). Барды – это священнослужители из касты друидов. Называть же увеселительное заведение «бард-кафе», как это широко практикуется в наших городах, – мягко говоря, некорректно. Это все равно что устраивать дискотеку в синагоге.
И еще о неправильном употреблении на российских пространствах термина «шансонье». Даже в солидных словарях в лучшем случае пишут: «шансонье – французский певец, исполнитель жанровых песен в “монмартрском” стиле, часто автор их слов и музыки». Во-первых, кто объяснит простым смертным, что такое «монмартрский стиль»? Почему не монпарнасский или не сен-жерменский, не говоря уже о Латинском квартале? Исторических кварталов с кабаре, кафе-театрами и прочими заведениями, где по вечерам не только пьют, но еще и поют, в Париже не счесть. Причем в самых разных «арондисманах», по-нашему – округах…
Во-вторых, далеко не каждый французский певец во Франции, даже если он и автор-композитор-исполнитель (термин громоздкий, зато точный), является шансонье. Обратите внимание: я четко определил только «нежной Францией» географические границы явления. Ибо во французской Канаде и Америке – в Квебеке и Луизиане, Манитобе и Акадии – термин «шансонье» употребляется по отношению к любому певцу. Но мы-то с вами говорим сейчас прежде всего о Франции. Кстати, «шансонье» во Франции еще называют средневековые манускрипты, объединяющие профанские песни. То есть сочинения на нерелигиозные темы, пусть и имеющие авторов, но ставшие народными. Самый известный из фолиантов «шансонье» – так называемый «Королевский манускрипт». В нем собраны шесть сотен песен конца XII и начала XIII века. Создание этого монументального песенника приписывается Карлу Анжуйскому, королю Сицилии и брату французского монарха Людовика IX.

Но вернемся к поющим шансонье. Во Франции «шансонье» называют артистов, исполняющих политические манифесты (кстати, таких сегодня очень мало), или артистов, выступающих в юмористическом и сатирическом стилях. Синонимом обычно идет слово «юморист». Для их спектаклей существуют специальные кабаре, кафе-театры и «поющие кафе» – «кафешантаны», которые и носят соответствующие жанру названия. Скажем, «Два осла» в районе площади Клиши, где смехачи и куплетисты специализируются на политических куплетах и пародиях, чем-то напоминающих стародавние «мазаринады». Или «Мадам Артюр», что у подножия Монмартра, где под началом сладкоголосого толстяка Мишу, несколько лет назад покинувшего земную юдоль, выступали в ярком макияже и в женских нарядах весьма своеобразные представители некогда сильного пола… Серьезных же певцов во Франции называют «шантёр» – «певец». Звучит гордо!
«Никак не пойму, почему в России меня называют “шансонье”, – удивлялся как-то в разговоре со мной Шарль Азнавур, помнящий с детства русский язык в той степени, чтобы чуть понимать его. – Я никогда в жизни поводов для этого не давал. Напротив – всегда старался писать настоящие песни».
«Настоящие» песни – это песни смысловые, не обязательно серьезные, но непременно с содержанием. Как говорят во Франции, «песни с текстом». А как же по-другому? Ведь вся история шансона тесно связана с историей языка потомков галло-римлян и иже с ними, с историей их поэзии, театра и мысли… Возникнув из симбиоза кельтских песнопений и куплетов, привезенных в обозах римских армий, французская песня объединила в себе церковный и городской – светский, застольный и любовный – репертуары. Мелодии бардов и друидов подхватили и обогатили ремесленники-строители и пилигримы-странники. Центрами культурного обмена становились не только аббатства и замки феодалов, но и «комендантства» – охраняемые рыцарями-крестоносцами постоялые дворы паломников, идущих в Рим, в Святую землю или в Галисию, к Сантьяго-де-Компостела. А также строительные площадки зодчих, возводящих по всей Франции величественные храмы: во славу Бога и во славу Человека, порой не имеющего дома собственного, однако познавшего «королевское искусство» ваяния из камня дома Божьего.
Когда квебекец Брюно Пельтье, преобразившись в поэта Гренгуара (такой персонаж существовал на самом деле), поет с подачи Люка Пламондона и Ришара Кочианте арию «Время храмов», с которой начинается культовая рок-опера «Собор Парижской Богоматери» по бессмертному роману Виктора Гюго, он, и правда, отдает дань великой эпохе. На рубеже двух первых тысячелетий нашей эры Европа, вновь открывшая для себя Восток, получила гигантский духовный импульс: зодчие, возводившие вдоль торговых и паломнических дорог «божьи дома», объединили всю западную часть континента цементом единой культуры. В том числе и песенной, самой доступной. Ибо в рабочих общинах, возникавших во Франции, как и в других государствах, появившихся на месте империи Карла Великого, рождался свой характерный музыкальный эпос – песенный фольклор трудовых корпораций. Песни обогащались канцонами путешественников-пилигримов, «городскими» частушками и куплетами, рождавшимися на ярмарках и рынках, на площадях городов. Прежде всего, во время католических праздников, в дни святых Михаила и Мартина…
Невероятно любопытно слышать эти незамысловатые мелодии сегодня. Дело в том, что музыкальная нотация появилась во Франции уже в IX веке. Благодаря невмам – специальным значкам, прообразам нот, ставшим частью литургического, церковного унифицирования пения, мы можем судить о культовых службах французов в прошлом. И вот что любопытно: народные песни, пополнившие церковный обиход, становились еще более популярными. Да это и понятно: песня – это искусство, открытое для всех и доступное всем. Из храмов, поднятых к небу земными мастерами, познавшими тайну архитектурного «золотого сечения», мелодии и положенные на них стихи возвращались на площади, постоялые дворы и в харчевни еще более яркими и искусными.
Колыбелью народной песни, ее творческой лабораторией в годы раннего Средневековья стал монастырь Святого Марциала Лиможского. Этому способствовало удачное расположение аббатства, стоявшего практически на середине пути от Экс-ля-Шапель (нынешнего немецкого Ахена), считавшегося столицей империи Карла Великого, к арагонской Сарагосе в Испании. В монастыре была создана база «бродячих клириков» (clerici vagantes), или «вагантов», – поющих на вульгарной латыни студентов. Они были организованы в братства, контролировавшие огромные территории от Дуная до Тежу, от Вены до Лиссабона. Французских «вагантов» еще называли «голиарами», то есть «порочными». Да это и понятно: ваганты, несмотря на свою вроде бы принадлежность к монашеству, воспевали по-латыни земные радости. И, заметим, не только чревоугодие…
При исследовании корней песенных традиций Франции и России выстраиваются некоторые любопытные параллели. Идя «Дорогой Звезд» (так паломники называли путь к мощам Святого Иакова в Галисии), странники и бродячие клирики встречали ватаги циркачей… Обратите внимание: ваганты, молодые монахи, это же наши бурсаки – гоголевский Хома Брут со товарищи! А «жонглеры» (так французы называли бродячих циркачей) – это российские скоморохи-забавники. Петрушка – душа скоморошья!..
Огромный, разъятый расстояниями, церковными раздорами и разноязычием континент жил одним могучим общим дыханием. Как и наши скоморохи, жонглеры не только показывали чудеса акробатики и укрощали косолапых, но и исполняли куплеты-частушки. Со временем репертуар бродячих циркачей стал шире, его пополнили баллады о любви, героические сказания… Правда, в России в пору царствования Алексея Михайловича началась повсеместная травля скоморохов. В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился указа о решительном запрете скоморошества. По всей стране прокатилась волна показательных судов над скоморохами: их сажали в острог, у них отбирали инструменты, которые публично сжигали на кострах… Подобное во Франции было решительно невозможно, но и там бродячих артистов власти на некоторых этапах истории тоже воспринимали враждебно.
В пору религиозных постов деятельность французских уличных певцов затихала. Того требовали и церковь, и традиции. Вынужденные каникулы использовались музыкантами для профессионального общения, для учебы. Собираясь в специальных «школах», певцы обменивались песнями, обогащали свой репертуар. Так оттачивалось ремесло. Сочинительство песен – и слов, и музыки – уже стало профессией во Франции, и это в XIII веке!.. Неспроста по примеру других ремесленников – каменщиков и плотников, ткачей и кожевников – недавние бродяги-жонглеры, объединенные по территориальному принципу в цеха, основали в 1331 году свою профессиональную корпорацию. Ее покровителем стал Святой Жюльен. А их, как бы сейчас сказали, штаб-квартирой сделался парижский храм Сен-Жюльен де Менетрие. Отсюда, по одной из версий, и пошло слово «менестрель». Есть и гипотеза, будто певцов-поэтов называли еще и менестрелями потому, что они являлись исполнителями – ministers – тайного богослужения.
Впрочем, существует и другая история, которая гласит, что при дворе короля франков Пипина Короткого, отца Карла Великого, Менестрелем, или Минстрелем звали главного музыканта. Этот творчески одаренный человек отличался тем, что умел своими песнями вдохновлять воинов на подвиги. Менестрель выходил перед строем бойцов и, перекрывая ветер, так вдохновенно и возвышенно исполнял гимны, что его соплеменники дружно бросались в атаку и разбивали недругов в пух и прах.
Менестрандией называлась корпорация музыкантов и певцов. Самый известный из них получал титул Короля Менетрие – короля менестрелей. Менестрандия открывала собственные музыкальные школы – прообразы наших консерваторий. Этот поющий ремесленнический суперцех был настолько мощным, что позволил себе основать в столице Франции госпиталь-приют для бедных и больных музыкантов. И это в начале XIV века, в1331 году!..
24 апреля 1407 года менестрели, игравшие заметную роль в культурной жизни Парижа, решили отказаться от своего названия, которое ассоциировалось прежде всего с бродячими артистами. С этой просьбой они обратились к монарху, о чем свидетельствует специальный эдикт. Король Карл VI постановил, что отныне называться «менестрелями» будут во Франции лишь игроки на виоле, прообразе скрипки. Их корпорация окажется ненамного более стойкой, чем церковь Святого Жюльена на парижской улице Сен-Мартен. Храм разрушат в первые дни революционных потрясений. Музыкальный цех переживет свою штаб-квартиру буквально на считанные дни: все структуры ремесленников прекратят существование в годы Французской революции 1789–1794 годов.
Не правда ли, впору запутаться во всех этих названиях, на самом деле обозначающих только одно понятие – певец? А ведь были еще во Франции и трубадуры, и труверы!.. Без них тоже непросто понять, куда уходят корни французской песни. Дело в том, что корпорация средневековых жонглеров строилась согласно строгой иерархии. Музыкальный цех объединял и простолюдинов из толпы, распевавших примитивные частушки между буффонадами клоунов и трюками акробатов, и людей большей частью дворянского сословия, владевших мастерством сочинения сложных поэтических произведений: эпических сказаний и любовных баллад. Именно последних и станут называть «трубадурами» – «искателями» по-окситански, на языке юго-западной и южной Франции.
Трубадуры – это не просто странствующие певцы любви, как принято считать. Трубадуры – это своеобразная тайная религиозная организация на юге и юго-западе Франции, ареале провансальского, окситанского языка. И пусть любовь в их творчестве – синоним искусства и науки, главное для них – возмущение идеологией и практикой Римской церкви. Не зря клир называл провансальский язык, на котором в основном творили трубадуры, «языком ереси». Такая характеристика неспроста: документально установлено, что трубадуры представляли собой остатки сарацинских – из арабской Испании – музыкантов и поэтов. В пламенных куртуазных стихах своих, которыми восторгались великие Данте и Петрарка, трубадуры воспевали Прекрасную Даму, чаще всего не называя ее по имени, а на самом деле, по одной из гипотез, в этих песнях были зашифрованы тайны их организации. Да-да, настоящей трубадурской церкви с ее иерархией!
У трубадуров было четыре степени посвящения. Но, если верить «Роману о Розе», самому знаменитому поэтическому произведению XIII века, этих степеней было семь (магическое число!). Каждой из них соответствовала символическая эмблема мистического значения. Того трубадура, который не знал символики своего градуса посвящения, коллеги наказывали, запрещая ему выступать в замках, сажая провинившегося таким образом на голодный паек. Трубадуры также имели собственные тайные знаки, по которым опознавали друг друга.

Есть мнение о том, что именно трубадуры – на севере страны их называли «труверами» – были авторами большинства песен, исполнявшихся жонглерами и менестрелями. Дескать, трубадуры, первыми из которых были такие высокие дворяне, как Гийом IX, граф Пуатье, герцог Аквитанский, отличались прекрасным образованием, знанием арабской и испанской поэзии, поэтому только они могли творить настоящие, большие произведения, которые затем подхватывали на площадях певцы из народа. Думаю, это лишь одна из версий. На самом деле, как мне кажется, разница между трубадурами и менестрелями во французской песне, стремившейся на протяжении всей своей многовековой истории к стандартизации и классификации форм, состоит прежде всего в жанре исполняемых произведений и в языке, на котором звучала песня.
Трубадуры пели на окситанском, на так называемом lengua romana, которым владели жители не только Аквитании и Прованса, но и Каталонии, Оверни, Савойи, Пьемонта… Их одним из самых известных представителей был Арно де Марей, он оставил, как утверждают историки, шесть «самых древних песен Франции». Трубадуры, хотя и использовали в своем творчестве литургические стихи, были в первую очередь воинствующими лириками. Именно они открыли Любовь с большой буквы для мира европейской поэзии. Любопытно, что во французском языке слово «любовь» (amour) мужского рода, а в старопровансальском это слово женского рода – amors.
Каждый трубадур долго обучался правилам хорошего тона и обхождения с дамой, а также поэзии и музыке. От настоящего трубадура требовалось знание новостей, обладание хорошей памятью и осведомленностью о последних сплетнях королевского двора, умение экспромтом сочинить стихи для сеньора или дамы и играть по меньшей мере на двух музыкальных инструментах. Для многих из них поэтическое искусство являлось единственным способом заработать себе на жизнь. Например, сын скорняка Пейре Видаль, отличавшийся блистательным трубадурским талантом, так возвысился, что «держал великолепных коней, носил роскошное оружие» и имел слуг. Правда, он не только талантом прославился, но и своими сумасбродствами. Например, влюбившись в даму по имени Лоба, что означает по-провансальски «волчица», он в знак своего служения ей бегал по горам в костюме Адама, набросив на себя волчью шкуру.
Трубадуры создали целую культуру, где господствовали законы любви – leys d’amors. По преданию, они были получены первым трубадуром от сокола, сидевшего на ветке золотого дуба. Эта птица, как символ любви, часто присутствует в трубадурских стихах.
Жанровых стихотворных форм было очень много. Это и кансоны – любовные песни, и сирвенты, в которых обсуждались вопросы морали, и альба – жалостливые песни о расставании влюбленных на заре, и пасторели, в которых рыцарь беседовал с любезной поселянкой, чаще всего с пастушкой…
Законы любви включали в себя тридцать одно предписание. Высшим из них было то, в котором определялось понятие «миннэ» – поэтической любви, исключающей любовь плотскую. «Миннэ» воспринималась трубадурами как высокий союз душ и сердец, на брак же они смотрели как на союз телесный, а соответственно – греховный. Сочинивший самую красивую песню о «миннэ» становился вассалом своей дамы, которым она могла впредь распоряжаться как своим крепостным. Стоя на коленях, трубадур присягал госпоже на вечную верность. Дама вручала своему паладину золотое кольцо – символ «миннэ», приглашала трубадура подняться с колен и целовала его в лоб. Этот целомудренный поцелуй был всегда первым и, как правило, последним, который дарила певцу прекрасная сеньора.
Прекрасная Дама для трубадуров – это полновластная и недостижимая госпожа. Нередко жена сюзерена, безнадежно недоступная и бесконечно далекая. Вот как формулировал это кредо в XII веке Жофре (по-провансальски: Джауфре) Рюдель, сеньор де Блай и знаменитый трубадур:
Нет, Даму мне не услаждать,
Любовных мне не ждать затей.
Увы, я мил не стану ей.
Та, что не в силах награждать
И нежной речью угождать,
Моих не осчастливит дней.
(Перевод Алексея Парина)
Жофре Рюдель своей жизнью (может, только мифом о ней?) прекрасно проиллюстрировал трубадурство как явление. Известно, что Рюдель, участник Второго крестового похода, полюбил дочь короля Иерусалимского Балдуина II – графиню Триполитанскую прекрасную Годиерну только по описаниям ее прелестей и воспел ее в песне «Далекая любовь» (порой ее переводят как «Любовь издалека»). Чтобы увидеть Прекрасную Даму, он отправился в Землю Обетованную, но по пути неизлечимо заболел и не смог даже сойти на берег, когда корабль приплыл в Палестину. И тогда, узнав о самоотверженности рыцаря, «Принцесса Греза» (так потом назовет Годиерну в своей пьесе Эдмон Ростан) сама взойдет на судно к ложу умирающего трубадура, и тот покинет Земное царство, целуя руку своей Прекрасной Дамы. Сбылась мечта поэта!.. Он, несчастный счастливец, будет похоронен в усыпальнице тамплиеров, а она, прославленная на века, скорбно и покорно уйдет в монастырь… Легенда, конечно. Но какая красивая, не правда ли?
К слову, сказание о любви рыцаря-певца к прекрасной Годиерне вдохновит Михаила Врубеля на создание по заказу Сергея Витте декоративного панно для павильона на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Позднее тот же самый сюжет был повторен великим художником в керамике для отделки фасада гостиницы «Метрополь» в Москве по заказу Саввы Мамонтова. Так что воздушная муза трубадуров вот уже не первое столетие взирает с высоты на суету огромного города, раскинувшегося у ее ног…

«Любовь вместе с весельем, празднествами и удовольствиями царила в замках счастливого Прованса», – писал Стендаль. Воспевание куртуазной любви к Прекрасной Даме превратилось со временем в главную, можно сказать, единственную тему трубадуров. Неслучайно их музой-покровительницей была провозглашена Элеонора Аквитанская – одна из самых блестящих женщин во французской истории, внучка герцога Аквитанского и графа Пуатье Гийома IX (подданные прозвали его Трубадуром), ставшая женой короля французского Людовика VII, а затем, после развода с французом, короля английского Генриха II Плантагенета. Однако эти династические браки, творимые вовсе не на небесах, нас должны мало интересовать. Главное – другое. Элеонора Аквитанская, установившая для трубадуров каноны воспевания любви, была возлюбленной великого трубадура Бернара де Вантадура.
Совсем иные жанры – «шансон де жест» и компленты. Их мастерами были жонглеры. Именно жонглеры-странники, как некогда греческие певцы-аэды, сделались творцами и хранителями героического эпоса. Великолепная «Песнь о Роланде» – творение народное. Как и многие другие «шансон де жест» – песни о деяниях – повествуют о битвах с язычниками-сарацинами, об испытаниях участников Крестовых походов к гробу Господню, о восстаниях баронов…
Латинская эпичность, смешавшаяся с германской сентиментальностью и кельтской пассионарностью, особенно удачно воплотилась, на мой взгляд, в комплентах – грустных сказаниях о страданиях героев. Простых людей, как правило, солдат, вернувшихся из далекого похода и не нашедших родного очага, овдовевших жен моряков, попавших в долговую яму простаков и обманутых мужей… По сей день старинные компленты, чистые как слеза, не могут никого оставить равнодушным.
А теперь вернемся к труверам, писавшим не на окситанском, лангедокском, а на языке, близком к современному французскому. Они выступали в Северной Франции – «на севере от Луары», как говорят французы, и так же, как трубадуры, не были простолюдинами. Скажем, знаменитейший поэт и певец Тибо де Шампань являлся потомком герцога-трубадура Гийома IX и внуком графини Марии Шампанской. При дворе этой просвещенной женщины процветала целая коллегия труверов. Самым выдающимся среди них был, конечно, Кретьен де Труа, основатель во французской литературе жанра любовного романа. Тут же нередко выступали со своими творениями и такие навсегда оставшиеся в истории французской культуры сочинители, как Конон Бетюнский, Блондель де Нель, Жан Бодель… Любопытно, что трувером был и легендарный крестоносец Ричард Львиное Сердце, сын Элеоноры Аквитанской, король Англии, ставший со временем поистине мифическим персонажем. Эти достойные рыцари, естественно, не могли оставаться только в регистре любовных страстей. Труверы вели настоящую пропаганду Крестовых походов, призывали к героической войне с неверными… Впрочем, война и любовь – как, к сожалению, показывает жизнь – вовсе не взаимоисключающие темы.
И в самом деле, многие из труверов участвовали в Крестовых походах, ставших мощным катализатором развития западноевропейской цивилизации. Из Земли обетованной рыцари принесли не только диковинные плоды и растения, но и достижения науки, архитектуры, культуры, кулинарии… Принесли вместе с трофеями и определенные традиции. Например, труверы позаимствовали у арабов и тюрков традицию песенных состязаний. Так, в Аррасе (ныне небольшом, провинциальном городке в департаменте Па-де-Кале, а в XII–XIII веках крупнейшем центре не только торговли, но и французской песни) главным событием года считались Артезианские игры. Они представляли собой состязания труверов, которые соревновались во вдохновении и изобретательности, ведя музыкально-поэтический диалог, подзуживая соперника. Победителю доставался весомый приз… Это народное развлечение пришло во Францию из соседней арабской Испании.
Так же и во времена поэтических ристалищ в средневековой Франции на победителя среди труверов бились об заклад на зрительских трибунах. И вообще, начало нынешнему шоу-бизнесу в мире шансона было заложено уже тогда. В 1270 году в одном только Аррасе с его тремя десятками тысяч жителей (по масштабам далекого времени немало: город был процветающим в ту пору) насчитывалось 182 трувера. Совершенно официально, заметьте! Их статус определялся специальными договорами. Более того – многих из них особые контракты связывали с коммерсантами и ремесленниками, чью продукцию труверы должны были, говоря современным языком, рекламировать. Увы, уже в ту далекую пору критерием искусства в немалой степени сделались деньги и – не поверите! – пиар.

Художественные соображения нередко отходили на второй план и во время выступлений труверов и трубадуров в замках. Ведь именно они превратились в такое же постоянное место встреч музыкантов-поэтов, как церкви и рыночные площади. Сеньор порой заказывал автору-исполнителю жанр и тему песни, и профессионалу не оставалось ничего иного, как подыгрывать хозяину домена. Впрочем, в этом, как бы сейчас сказали, заказном искусстве были и свои положительные стороны. На праздниках в замках отрабатывались новые песенные жанры, народная устная традиция обретала более утонченные формы. В XIII веке уже появились такие песенные жанры, как рондо, вирле, баллада… Не говоря уже о разнообразных танцевальных песнях, которые можно объединить одним термином: «ронде де кароль» (rondet de carole).
Любопытно, что началом, основой этого понятия послужило слово «кароль». В католическом храме так называется боковой предел. Согласно традициям раннего христианства здесь разрешалось танцевать и петь песни во время некоторых богослужений в дни религиозных праздников. Слово «кароль» можно встретить и в знаменитых старинных стихотворных произведениях, которые во французских школах когда-то заучивали наизусть: «Роман о Лисе» и «Роман о Розе». «Кароль» восходит к слову «кореа» (chorea). Оно означает групповой танец под коллективное пение с чередованием выступлений солистов и хора. Причем певец исполняет куплеты, а танцующие, взявшись за руки, подхватывают припев. Такую перекличку между солистом и хором можно услышать и в русском народном пении. Нередко из песенно-танцевальных коллективов, исполнявших «кароль», вырастали великие мастера – такие труверы, как Адам де ля Алль (1240–1285). Этот автор-исполнитель был и замечательным музыкантом из плеяды мастеров так называемой Школы Нотр-Дам.
Именно в эпоху раннего Средневековья родилось понятие «шансонье». В документах того времени можно найти песни под названием «Шансонье Сен-Жермен» и «Шансонье из Арраса». Они вошли в сборники песен, эротичнее которых трудно себе что-либо и представить. В это же время мы найдем баллады, рефрены и рондо, которые дадут начало песне в нашем современном понимании. Важное замечание: труверы и трубадуры не будут исполнителями собственных произведений. Их исполняют другие. И называют их жонглерами, кюизинье (гениально: это переводится как «кухонные люди»!), менестрелями…
И все-таки главное – не репертуар, а то, что их ремесло медленно, но верно служит сближению южнофранцузского и северофранцузского наречий. А значит – образованию французского языка в его современном понимании… Кстати, именно тогда и родилось понятие «артист варьете» (от латинского varietas – разнообразие, пестрота), на многие годы обозначившее развитие шансона.
Сведя воедино площадной фольклор, любовные баллады и церковные мессы, певцы-сочинители – и вошедшие навсегда в историю, и ныне позабытые – подготовили истинный взрыв гения французской песни в XV веке. Важнейшей музыкальной площадкой Европы стал двор Филиппа Доброго, герцога Бургундии. На величественных приемах, завершавшихся долгими и пышными трапезами, устраивались целые музыкальные спектакли. Автором многих из них был нидерландец Гийом Дюфаи, композитор, поэт и музыкальный педагог, один из основоположников полифонии. Соперничал с ним Беншуа. Под этим прозвищем блистал в окружении герцога Бургундского, основателя ордена Золотого руна, его дворецкий Жилль де Бенш – выпивоха, задира и автор несметного числа многоголосых куртуазных песен, порой весьма смелых даже по современным понятиям…
Из многочисленных владений жизнелюба и мецената герцога Филиппа Доброго – Дижона, Безансона, Лилля, Брюсселя, Брюгге – французская песня пошла гулять по всей Европе: Германии, Англии, Италии, скандинавским странам…
С началом же французского Ренессанса, принесенного королем Франциском I вместе с воинской добычей из Италии, песня утверждается как совершенно самостоятельный жанр искусства. Кстати, сам король, слывший покровителем искусств и считавший себя духовным сыном Леонардо да Винчи, был не прочь сочинять романтические баллады и исполнять их перед придворными дамами. Тогда-то и закрепилось в понимании европейцев понятие «шансон», ставшее сегодня неотъемлемой частью нашей цивилизации.
Продолжение следует