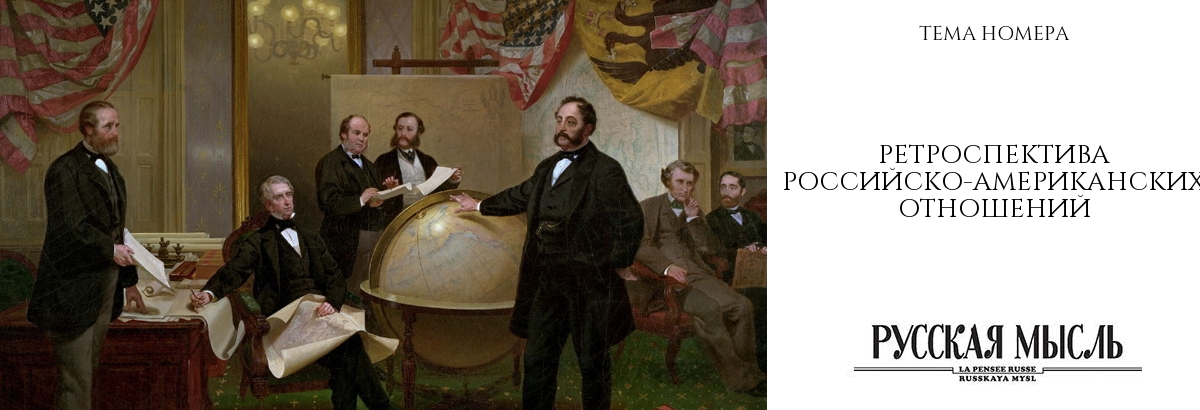Русские классики о Рождестве Христовом и праздновании Нового года
Кирилл Привалов
«Каждый год кончается счастливо – он завершается Новым годом». Не помню, где и когда я услышал это, но в этом изречении есть, как говорится, своя сермяжная правда. Все правильно: разве не лучший нам подарок от Бога – сопряженный с Рождеством Христовым каждый Новый год? Даже если он и не преисполнен по-детски ожидаемой наивной радости, даже если он и окрашен в тревожно-печальные тона, даже если он и связан с предчувствием сумрачной тревоги?.. Скажем, как в творчестве Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
Мое упоминание в новогоднем контексте этого замечательного русского писателя-сатирика вполне объяснимо. Ведь в наступившем году исполняется 200 лет со дня его рождения. В моем восприятии Салтыков-Щедрин – своеобразный литературный феномен: чем больше читаешь его произведения, тем острее ощущаешь, что он еще не полностью понят потомками и что его пророчества еще не до конца сбылись.
Упоминание же нового года у Салтыкова-Щедрина – это не просто художественная зарисовка, а повод для истинно философских раздумий:
«В самом деле, что такое “старый год”, что такое “новый год”? Неужели человечество еще недостаточно умудрено опытом, чтоб убедиться, что это не более как термины, имеющие значение исключительно астрономическое. А какое дело нам, простым и бедным людям, до того, что происходит в области астрономии! Разве “новый год” приносит нам пироги и жареных поросят? Разве, уходя, “старый год” уносит в вечность все черствые куски, которыми усеяна сия юдоль плача? Чему мы радуемся? Что жалеем? О, оставим лучше астрономов в покое доказывать все, что им доказывать надлежит, и будем жить, как живется, ничего от себя не утаивая, но ничего и не преувеличивая.
И в старом году хорошо жилось, и в новом хорошо будет житься. Это уж так изначала заведено, чтоб всегда жилось именно так, как живется…»
Трудно с подобной исповедью не согласиться. Это из записок «Наша общественная жизнь» от января 1864 года. А в «Губернских очерках» 1857 года в зарисовке под характерным названием «Елка» Салтыков-Щедрин дает целую панораму жизни российской предрождественской провинции: «На дворе очень холодно; мороз крепко сковал и угладил дорогу и теперь что есть мочи стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собою санки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей… “Ба! да ведь сегодня сочельник!” – восклицаю я мысленно.
Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые препоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении – это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременною обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам…»
И вообще, мне кажется весьма познавательным вспомнить, что писали о Рождестве Христовом и праздновании Нового года русские классики разных времен и мест обитания. Причем не только непосредственно в своих произведениях, но и в письмах близким им людям.
«Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума, – утверждал Антон Чехов в рассказе «Ночь на кладбище», напечатанном в 1886 году. – Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

Едкий и беспощадный на слово Антон Павлович остался верен себе и в волшебную – только не для него самого! – новогоднюю ночь. Не менялся Чехов и в своих почтовых праздничных поздравлениях. Вот что он написал 27 декабря 1897 года близкой ему Лике, Лидии Мизиновой: «Теперь в Москве Новый год, новое счастье. Поздравляю Вас, желаю всего самого лучшего, здоровья, денег, жениха с усами и отличного настроения. При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят одни только перья».
Столь же остроумно поздравил Антон Павлович и старшего брата Александра в письме, датированном 2 января 1889 года. В ушедшем году умерла его гражданская жена Анна Хрущева-Сокольникова. Александр, тоже литератор, недолго вдовствовал и обвенчался с гувернанткой своих сыновей Натальей Гольден (будущей матерью Михаила Чехова, блистательного актера и театрального режиссера). Вот это новогоднее послание:
«Велемудрый государь!
Поздравляю твою лучезарную особу и чад твоих с Новым годом, с новым счастьем. Желаю тебе выиграть 200 тысяч и стать действительным статским советником, а наипаче всего здравствовать и иметь хлеб наш насущный в достаточном для такого обжоры, как ты, количестве…
Вся фамилия кланяется».
В эпистолярном жанре выдержано и новогоднее поздравление Петра Ильича Чайковского. 2 января 1880 года он написал меценатке и покровительнице искусств Надежде фон Мекк, много лет поддерживавшей его весомым пособием в шесть тысяч рублей в год. Той самой «прекрасной незнакомке» (Чайковский и фон Мекк никогда не встречались), которой благодарный композитор многократно признавался: «Ваша дружба будет всегда отрадой моей жизни».
Отмечая в Риме католическое Рождество вместе с младшим братом Модестом, Чайковский отправил поздравление с новым годом в имение фон Мекк в Браилове, что на Украине:
«Мы встретили новый год с книгами в руках. Мысленно я пожелал Вам, дорогой мой друг, всяких земных благ: во-первых, конечно, здоровья; во-вторых, успеха в Ваших делах и в особенности, чтобы Ваше браиловское хозяйство наконец стало на твердую ногу; в-третьих, в случае путешествия за границу, чтобы на сей раз Вы избегли всяких неприятностей и невзгод; в-четвертых, чтобы были счастливы и довольны все близкие Вашему сердцу. Озираясь на протекший год, я должен спеть гимн благодарности судьбе за множество хороших дней, прожитых и в России, и за границей. Я могу сказать, что за весь этот год я пользовался ничем не смущаемым благополучием и был счастлив, насколько счастье возможно. Конечно, были и горькие минуты, но именно минуты, да и то на мне только отражались невзгоды близких мне людей, а собственно я лично был безусловно доволен и счастлив. Это был первый год моей жизни, в течение которого я был все время свободным человеком. И всем этим я обязан никому иному, как Вам, Надежда Филаретовна! Призываю на Вас всю полноту благ, какие только возможны на земле».
О русском Новом годе из европейского «далека», из Парижа, пишет и Тэффи, прекрасный литератор-эмигрант Русского зарубежья Надежда Лохвицкая. В рассказе под названием «Сосед» она сравнивает французского Пэра Ноэля и русского Деда Мороза, причем далеко не в пользу француза:
«Перед кондитерской ходил по тротуару ряженый Дед Мороз с елочкой в руках. Дети кричали ему свои желания. Матери слушали, кивали головой, – но они-то тут совсем ни при чем. Пэр Ноэль все сам припомнит, кому чего хочется. Сосед не посмел прокричать свои желания. К тому же их было так много, что все равно не успеешь. Он вообще желал всего, что просили другие дети, да, кроме того, и всех тех диковинных штук, которые были у “Лерюссов”. Но, конечно, его очень мучило, что он не посмел попросить. И он был очень несчастен. Хорошо, что Катя догадалась в тот же вечер написать русскому Пэр Ноэлю. Тот принесет все, что сможет с собой захватить. Настоящую железную дорогу, которую заказал сосед, пожалуй, не сможет, но барабан притащить нетрудно. И чудесный флакон из-под бриллиантина, наверное, тоже прихватит. Словом, жизнь будет еще прекрасней».
А вот как описывает праздничный вечер в Павловском институте благородных девиц в одном из бестселлеров рубежа XIX и XX веков под названием «Записки институтки» Лидия Алексеевна Чарская, по праву прозванная современниками «властительницей дум российских гимназисток»:
«Посреди залы, вся сияя бесчисленными огнями свечей и дорогими, блестящими украшениями, стояла большая, доходящая до потолка елка. Золоченые цветы и звезды на самой вершине ее горели и переливались не хуже свечей. На темном бархатном фоне зелени красиво выделялись повешенные бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сработанные старшими. Под елкой лежали груды ваты, изображающей снежный сугроб».
Это еще не все. Вот от той же Лидии Чарской специальный «рождественский рассказ» (существовал такой жанр в литературе) под названием «Елка через сто лет», опубликованный в журнале для детей «Задушевное слово» в 1915 году: «…В тот же миг распахнулись двери гостиной, и Марсик вскрикнул от восторга и неожиданности. Посреди комнаты стояла чудесная елка. На ней были навешаны игрушки, сласти, а на каждой веточке ярко сверкал крошечный электрический фонарик, немногим больше горошин.
Вся елка светилась, как солнце южных стран. В это время заиграл большой ящик в углу. Но был не граммофон, но другой какой-нибудь музыкальный инструмент. Казалось, что чудесный хор ангельских голосов поет песнь Вифлеемской ночи, в которую родился Спаситель.
“Слава в Вышних Богу и в человецах благоволение”, – пели ангельски-прекрасные голоса, наполняя своими дивными звуками комнату».
Совсем иначе, куда более сдержанно и скромно, вспоминает о встрече Нового года прекрасный писатель советской поры Лев Кассиль в книге «Кондуит и Швамбрания», на которой выросло несколько поколений «строителей коммунизма» в СССР. У Кассиля Новый год это – увы! – праздник лишь для взрослых:
«Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что “Новый год – это совершенно не детский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда”».
Как грустно! Так и тянет вспомнить старинную поговорку: «В незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги, а в знакомом – хорошо встречать Новый год». С многозначительными тостами, вдохновляющими на обильные возлияния под щедрые (желательно, «горячие, московские», как учил Михаил Булгаков) закуски.

Кстати, и тосты вполне можно было бы позаимствовать у русских классиков. Например, у Александра Сергеевича Пушкина. Так, «нашему все» принадлежат слова: «Любовь – единственная игра, в которой у любителя больше шансов для совершенства, чем у профессионала».
Остается только добавить тостующему: «Выпьем же за любовь и за совершенных любителей!» Или у Федора Достоевского: «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни». Стоит лишь молвить в пандан: «Выпьем же за настоящую жизнь!» – и звучный тост для всех и вся за хлебосольным столом обеспечен!..
Список подсказок от грандов отечественной литературы для мастеров тостов (какая прекрасная русско-кавказская специальность!) можно продолжать и продолжать… Однако у нас с вами ныне цель иная, нежели подбивать любителей новогоднего застолья на новые чревоугодные подвиги. А непосредственно у автора задача – продолжить повествование о новогоднем праздновании в былые годы с помощью классиков российской литературы. Скажем, Александра Ивановича Куприна.
«Хорошо вспоминается из детства рождественская елка: ее темная зелень сквозь ослепительно-пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно – запахи, – пишет Куприн в рассказе «Елка в капельке». – Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом: “Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос”. Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью.
Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на игрушку ближайшего соседа. <…>
Что говорить, волшебна, упоительна елка. Именно упоительна, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачово-красны.
Но много, ах как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются: какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом. Сел на пол под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные».
Если же учесть, что Новый год неразлучен у нас с Рождеством Христовым, можно вспомнить и об ангелах. Не зря рассказ Леонида Андреева так и называется – «Ангелочек»:
«…Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.
Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:
– Милый… милый ангелочек!»
«Что Тебе принесем, Христе, // Яко явился еси на земли // Яко Человек нас ради?..» – гласит одна из первых стихир, молитвенных стихотворных строк, которые поются на богослужении в начале вечерни Рождественского сочельника. Как тут не обратиться к эссе Василия Розанова под заголовком «С Рождеством Христовым!» На его чистой, высокой тональности не грех и закончить:
«Снова в сознании и в чувствах народных рождается Предвечный Младенец, – рождается в вертепе, т.е. в пещере, куда на ночь сирийские пастухи загоняли свой скот, охраняя его от хищных зверей. Снова приходят поклониться Младенцу и Богу сперва пастыри, т.е. пастухи окрестных стад; и затем приносят Ему дары, золото и благовонные смолы “волхвы с Востока”, – дары, знаменующие и священническое, и царское служение рожденного Младенца. Так в этих чертах, и простых и народных, говорящих что-то “свое” и “родное” каждой бедной хижине, – и вместе в чертах небесных и религиозных, уже предрекающих будущие звоны христианских церквей, родился наш Христос, научивший людей и народы новой истине, новой правде; родился Тот, Кто возвестил всем новый закон благодатного существования.
“Свое”, “родное” говорит каждой хижине Рождество Христово. Никакие царства и никакие власти, никакие обширные и новые законы, требующие от человека повиновения и говорящие ему языком приказания, – не могли бы внести и не вносят того внутреннего содержания, того сердечного говора, какой принес людям Рожденный Младенец. <…>
Ну, с Богом! Здравствуйте все, помните бедных и что-нибудь им уделите в праздник! И сами не забывайте Бога и простодушной русской веселости».