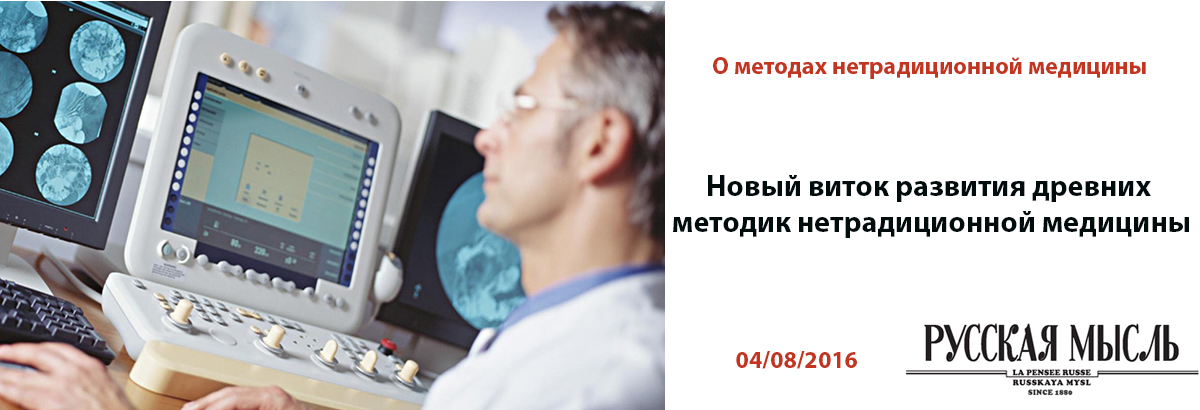Автор: Ольга Орлова
За последние 25 лет сделан огромный прорыв в изучении строения, функции и состояния мозга
В Москве прошел второй междисциплинарный форум «Неделя науки». В этом году главной темой обсуждения стали нейротехнологии. Одним из гостей форума был известный американский анестезиолог, руководитель кафедры анестезиологии Университета Южной Калифорнии Владимир Зельман.

– Владимир Лазаревич, вы приехали на форум “Московская неделя науки”. И она посвящена нейронаукам. Каковы основные направления в этой области, на чем стоило бы сконцентрироваться? И как это отражено в повестке форума?
– За последние 25 лет сделан огромный прорыв в изучении строения, функции и состояния мозга, а также и болезней мозга. Мы сегодня сделали много прорывов и в других областях изучения физиологии и патологии человека. Но эта область как-то отставала. И в связи с тем, что в последние годы появились новые технологии, которые позволяют нам более тщательно посмотреть функции мозга, этот прорыв и стал реальным. И сегодня мы даже можем читать мысли человека. Недавно в нашем Университете Южной Калифорнии были проведены интересные эксперименты на животных. Очень важная часть мозга – гиппокампус, где сохраняется информация, память. И там же – центр обучения. Доктор Бергер из Университета Южной Калифорнии вместе с другим университетом создали макет на животных, где они абортировали память животного, после того как туда списали программу. И после этого снова ту программу ввели животному, и это животное восстановило всю ту реальность нахождения предметов, дорожки и так дальше. Это действительно стало большим прорывом, потому что мы поняли, что мы можем брать информацию из мозга и можем обратно ее возвращать.
И речь идет о так называемом пейсмейкере мозга. Дело в том, что сегодня в мире огромная проблема – это так называемая болезнь Альцгеймера, когда люди теряют память и превращаются практически в тени, не понимая, где они находятся. Хотя иногда они физически близки к полному здоровью. И даже находясь дома, они не понимают, в каком направлении идти. И можно списывать память у этих больных, восстанавливать ее. И этот пейсмейкер будет на какой-то момент возвращать этим людям ориентацию. Конечно, это временное, но это будет большим облегчением. Потому что если кто-то когда-нибудь наблюдал этих больных, это огромнейшая трагедия не только больного, потому что он уже практически без сознания, но это огромная нагрузка для семьи и обслуживающего персонала.
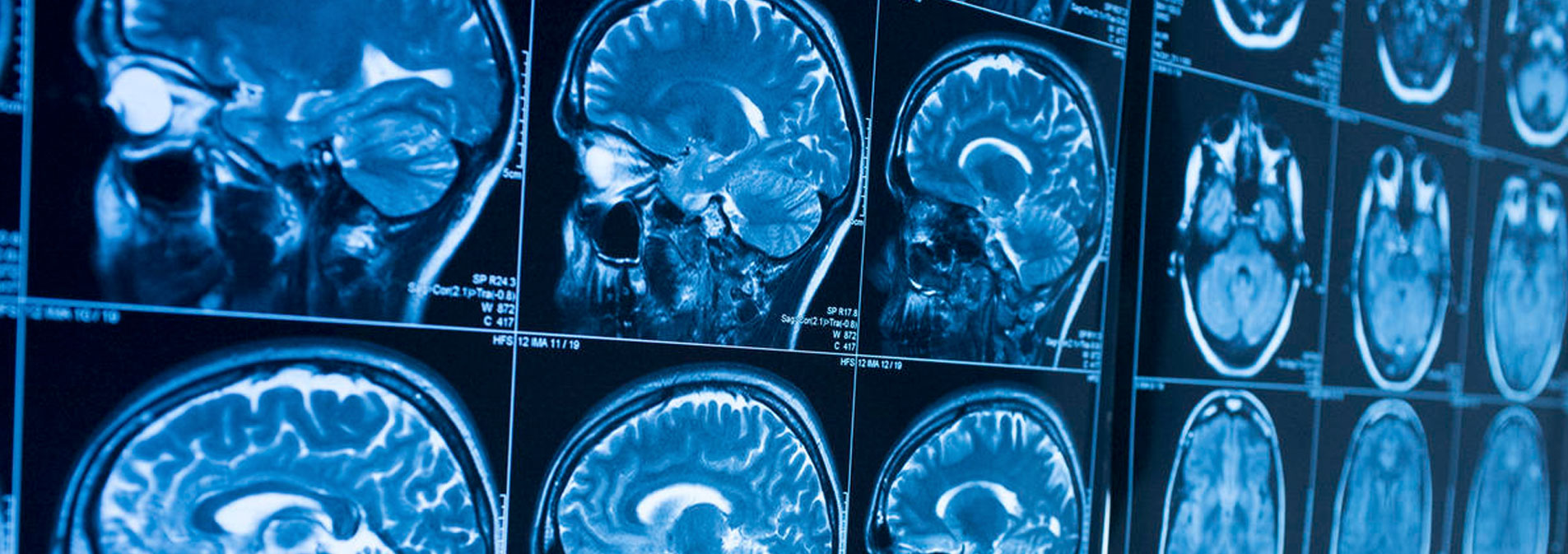
– Вы в своих выступлениях неоднократно говорили, что для того, чтобы произошли какие-то очень важные прорывы в медицине, должно быть объединение традиционной медицины и генной медицины. В чем принципиальная разница и что должно случиться, чтобы это произошло?
– Вообще-то так называемая традиционная медицина существует с древних времен.
– Это так называемая доказательная медицина?
– Доказательная медицина. И я сразу хочу подчеркнуть. Интересно, что российская школа Боткина, Остроумова (можно перечислить очень много имен) отличается именно особой гуманностью и клиническими наблюдениями. И это все строилось на опыте известных врачей, которые описывали синдромы, симптомы этих больных и в соответствии с этим подбирали методы лечения. Однако наука не остается на месте. И сегодня мы все больше и больше приближаемся к так называемой молекулярной медицине. И даже следующий шаг будет наномедицина, которая на еще более глубокий уровень уходит. И поэтому идет время замещения одного на другое. Но тут надо быть крайне осторожным, потому что традиционная медицина является сегодня доминирующей. Ее замена займет довольно большое время. Поэтому люди должны продолжать лечиться у традиционных опытных врачей.
Но образование надо менять так, чтобы медленно и неуклонно идти к новой генерации врачей, которые будут уже обладать знаниями более фундаментальными и применять их у койки больных. То есть трансляционная медицина, как мы сегодня говорим: от лабораторий, новых открытий к койке больного – и использовать их на благо больных.
– К вопросу о подготовке врачей. Сейчас информация обновляется очень быстро. И что же получается? Что традиционный врач должен становиться одновременно ученым?
– Не обязательно. Пользоваться современными методами не означает, что ты ученый. Ты можешь просто быть врачом современным, используя все новые технологии. Например, если диагноз раньше ставили на основании стетоскопа, это было, когда я учился, то сегодня уже существует ультразвук. Мы очень редко сегодня используем стетоскопы, которыми слушали больного. Но врач должен установить контакт с больным, он должен понимать его, он должен его слушать. И даже традиционные методы аускультации и так дальше у настоящего врача должны оставаться. Потому что тогда больной ощущает так называемую психологическую близость и так называемое сострадание. Это крайне важно. Потому что иногда врачи даже не смотрят больных. Посмотрели на MRI или MRT, или посмотрели на анализы – вот ваш диагноз. Диагноз правильный, однако человек превращается в какой-то объект молекул или визуализации. Это тоже неправильно. Может быть, я консервативен, но всю жизнь я стараюсь быть врачом, который общается с больным. Даже как-то меня критиковали, что я очень долго беседую с больным до операции. Что надо это делать быстрее. Я считаю, что это неправильная критика. Больной идет на операцию. И он иногда боится не только операции, но и наркоза. И задача – его психологически подготовить. Ибо если больной волнуется, у него много резервов исчезает до операции. И для нас, анестезиологов, и для хирургов, и для послеоперационного периода остается меньше массы защиты. Поэтому контакты с больным, объяснения того, что мы делаем, и уверенность, что он доверяет мне жизнь – это крайне важный фактор.
– Кем вы себя больше ощущаете – врачом или исследователем? И в какой момент в вас просыпается исследователь?
– Конечно, врачом. У меня 57 лет врачебного стажа. В одной из таких областей, в которой мы на грани жизни и смерти – анестезиология. Сейчас я больше занимаюсь анестезией. Однако я занимался реаниматологией. И здесь, и в Соединенных Штатах в первые годы. Я анализирую все это и пытаюсь найти некие закономерности патологического процесса, методов лечения и на эту тему делиться с коллегами. И всегда я говорю моим ученикам (их больше 700 в Соединенных Штатах Америки), что, конечно, у меня были ошибки в моей работе. Я хочу делиться с вами. Потому что у вас будут свои ошибки. Главное – не повторяйте моих. Я ощущаю себя доктором, врачевателем. И вместе с тем считаю, что в клиническом направлении я исследователь. Кстати говоря, Борис Васильевич Петровский подарил мне книгу, в которой написал “Дорогому Владимиру Лазаревичу, клиницисту-исследователю, с лучшими пожеланиями…”
– Но ведь он неслучайно так написал?
– Потому что он тоже был клиницистом. И он не занимался в лаборатории так называемыми опытами на животных. Он всю жизнь работал в операционной. И это был, конечно, блестящий, классический врач традиционной российской гуманитарной медицины.
 – Вы в своих выступлениях уделяли внимание биоинформатике и возлагали на нее надежды. Ведь там обрабатываются огромные массивы данных. Но, например, практикующему врачу или вам, анестезиологу, как это могло бы помочь? Чем биоинформатики могли бы вам помочь прояснить какие-то картины?
– Вы в своих выступлениях уделяли внимание биоинформатике и возлагали на нее надежды. Ведь там обрабатываются огромные массивы данных. Но, например, практикующему врачу или вам, анестезиологу, как это могло бы помочь? Чем биоинформатики могли бы вам помочь прояснить какие-то картины?
– Я считаю, что сегодня биоинформатика является, наверное, самым главным моментом для выводов и заключений по поводу исследований. Можно привести такой пример. Со мной приехал мой коллега Пол Томпсон, который является директором Института нервной визуализации (neuroimaging) генетической карты мозга, – так называемые массивные статистические исследования, или Big data. У нас собран материал – 50000 визуализаций мозга в различных параметрах. Это огромный массив материала. Собрать его сегодня не так трудно. Это порядка 200 институтов в мире. 37 стран участвует. Нескольких тысяч клиницистов, которые этим занимаются. Однако чтобы сделать из него материал и выводы, необходимы высокоэффективные просчеты, компьютеры, которые будут находить признаки, которые у массы людей будут совпадать, и тогда мы увидим измененные гены, патологии, и мы увидим визуализацию мозга. И тогда компьютер будет их классифицировать и говорить: при этом заболевании такой-то ген виноват, при этом – такой-то ген. Или, допустим, недавно в Израиле провели исследование: называется мужской или женский мозг. И нашли между мужским и женским разницу где-то от 4% до 8% объема. Однако в качестве никакой разницы нету. Даже есть спекуляции, что у женщин более эффективно работает так называемая проводящая система. То есть практически нет половой разности рабочих функций. Но есть, естественно, гормональные различия, анатомические некие различия и так дальше. Это было установлено путем массива материала с помощью статистических исследований и расчетов. И были показаны цифровые изменения, но не качественные изменения.
– Насколько я знаю, в штате Южной Калифорнии, где вы работаете и живете, у всех новорожденных берут скрининг на генетические заболевания. Тем более что список ведь все время увеличивается.
– Я считаю, что это крайне важный момент. Он начался давно. Штат Калифорния это делает где-то лет 15-20. И вы абсолютно правы. Открываются новые врожденные заболевания, особенно с человеческим геномом, где смотрят эту карту.
– После того, как был расшифрован геном человека…
– Он еще полностью до сих пор не расшифрован. Он показывает только тенденции, возможности заболевания. Он не показывает еще стопроцентно, что человек заболеет. Однако в чем эта особенность? Обнаруживая у новорожденного некую склонность к патологии, сегодня находят и методы лечения. И если этот синдром подпадает под так называемые коррегирующие, то эти дети не только выживают – они могут нормально жить всю свою жизнь.
– Вы росли на Украине, учились в Новосибирске, работали в Москве и теперь в США. Сейчас довольно сложная ситуация. Какова роль науки в этой ситуации?
– Очень важная. Я вам сейчас приведу пример. Вот проект “Энигма”. Три года назад с профессором Полом Томпсоном мы приехали и сделали первую лекцию в Институте нейрохирургии имени Бурденко. Кстати говоря, тогда все не очень поняли, о чем мы говорим. После этого мы поехали в Новосибирск – город, который дал мне образование, – в Академгородок, который я считаю, наверное, лучшим центром в мире. И поверьте мне, это не просто комплимент. Это величайший город науки, аналогов которому, я думаю, даже уверен, нет (чтобы было 35 научно-исследовательских институтов). И, кстати, я являюсь членом Международного наблюдательного совета Новосибирского государственного университета и курирую медико-биологическую школу, и мечтаю превратить ее в классический medical school, как мы говорим, по аналогии моей школы в Калифорнии, и их врачи к нам приезжают, учатся, мы туда ездим, по скайпу читаем лекции и так дальше.
Так вот, поехали с этим проектом в Новосибирск и заключили договор с шестью институтами. И этот проект пошел. Мы с 10 институтами работаем. Из Украины я позвал директора Института нейрохирургии Евгения Педаченко, с которым я дружу многие годы, я пригласил директора Института нейрохирургии из Казахстана из Астаны, я пригласил из Белоруссии. И к ним приезжают все три представителя. У нас даже близко никто не обсуждает никакие конфликты. Я должен сказать, это очень важно. Когда началась немножко децентрализация, в нейрохирургии, конечно, был такой кризис.
Человек, который держал все вместе – это был Александр Николаевич Коновалов. Благодаря его авторитету никогда не было и, я думаю, он заложил такую основу, что никогда и не будут между учеными противоречия. Я не знаю ни одного ученого, который бы мог высказаться плохо о российских ученых со стороны Украины, или наоборот.
 – Какое свойство человеческого сознания вам кажется самым удивительным?
– Какое свойство человеческого сознания вам кажется самым удивительным?
– Во-первых, я сегодня читал лекцию, рассказывал такой эпизод. Вы знаете, что в 1953 году была открыта структура ДНК. Это сделали два ученых: Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон. Я недавно видел Уотсона. Он к нам приезжал. Он всю свою оставшуюся жизнь посвятил разгадке раковой болезни, онкологии. Фрэнсис посвятил свою жизнь изучению того, что такое сознание. Он последние годы работал в Институте в Сан-Диего и имел лабораторию у нас в Калифорнийском технологическом институте. И он говорил, что вы, анестезиологи, отключаете сознание очень просто. Мы вам платим за то, что вы нас пробуждаете с возможностью того, что у нас остается память. Конечно, особенность мозга – это то, что он умеет репарироваться, восстанавливаться.
Дело в том, что мозг обладает огромными, многостепенными, многоэшелонированными слоями защищаться и восстанавливаться. Трагедия в том, что восстановление – очень длительный процесс. По какой-то причине все трофические функции восстановления работают медленно. Еще непонятно, почему это произошло в эволюции, хотя количество нервных клеток у нас 100 млрд. Хотя во внутриутробном развитии у нас 200 млрд, то есть огромный запас. Наша задача сегодня – найти те внутренние силы защиты, которые мы сможем стимулировать и восстанавливать это значительно быстрее. И мы больше и больше подходим к так называемой генетической инженерии, где мы сможем влиять на мобилизацию генных структур, для того чтобы мобилизовать все эти силы. Потому что в принципе все регулируется генами. Их у нас 20–22 тысячи. Но в комбинации их очень много. Они не работают один на один, это очень сложная структура. Поэтому надежда на то, что мы разрешим многие проблемы мозга в ближайшие декаду или две, чтобы мы не повторяли ошибку с человеческим геномом. Нам казалось, что в 2003 году, когда мы закончили проект, все люди стали [спрашивать]: а где же лечение рака, а где же лечение сердечно-сосудистой патологии? И мы поняли, что мы только в этой огромной глубине начинаем копать где-то только маленькую часть. И чем больше мы начинаем входить в этот процесс, тем больше понимаем, насколько это сложно и как много лет еще нужно, и как много новых прорывных технологий необходимо, для того чтобы медленно и неуклонно находить ответы на многие вопросы.
– У вас было более 50000 пациентов. Кто из них был самый трудный?
– Вы знаете, если так вспоминать, вот один маленький пример. Нельзя сказать трудный, но запоминающийся. Когда я только окончил институт, я два года был в ординатуре по детским болезням в Новосибирске и дежурил. И умирал ребенок от лейкемии. И так получилось, что было мое дежурство, и там родители сидели: когда он последний раз вдохнул, я ушел и долго плакал. Мне было очень тяжело. Я не мог выйти даже к родителям, как-то сказать. Я был молодой врач, то есть ординатор, только кончил мединститут. Это можно называть, наверное, одним из таких случаев.
При поддержке Общественного Телевидения России

Владимир Зельман родился в 1935 году в украинском городе Сквира. В 1959 году окончил лечебный факультет Новосибирского медицинского университета. С 1961 года возглавлял отделение нейроанестезиологии Института неврологии Академии медицинских наук СССР в Москве. В 1975 году уехал жить в США, подтвердил свою медицинскую квалификацию и стал заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Является одним из самых известных анестезиологов США. Профессор, почетный член Российской академии медицинских наук, иностранный член Российской академии наук, почетный профессор Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга и Новосибирского государственного медицинского университета.