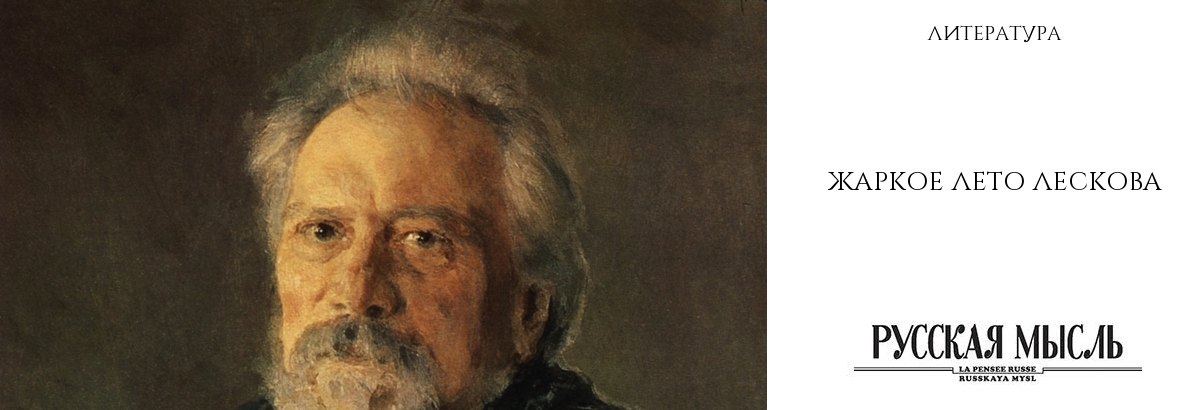Предлагаем вниманию читателей фрагменты книги известного российского писателя В. Д. Поволяева о Рихарде Зорге, легендарном разведчике ХХ века, чье имя внесено в список ста мировых знаменитостей, повлиявших на ход мировой истории в прошлом столетии: в значительной степени именно благодаря Зорге удалось отодвинуть японскую военную машину от границ СССР на Дальнем Востоке
Валерий Поволяев
…Итак, Рихард Зорге, выступавший в Японии как записной немецкий журналист и блестящий пресс-секретарь посольства Третьего рейха, арестован по обвинению в шпионаже имперскими спецслужбами и оказывается в заключении в токийской тюрьме Сугамо. Возглавляемая Зорге под агентурным псевдонимом Рамзай подпольная группа интернационалистов-антифашистов – Вукелич, Клаузен, Одзаки, Мияги и другие – разгромлена, но морально не сломлена. Сумеет ли Москва спасти своих разведчиков? Пойдет ли на это Сталин?
Вчера Иосикава сказал Рихарду, что предоставляет ему несколько дней отдыха. Что это означает? То ли прокурор выдохся, то ли следствие подошло к концу, то ли он вообще таким способом подтвердил факт, что очень скоро начнется суд.
Зорге здорово поистрепался, похудел, одежда на нем стала рваная, и вообще он не был похож на себя совершенно – увы, совсем не тот лощеный Зорге, которому еще в 1941 году завидовала вся немецкая колония, это был Зорге середины 1943 года, бесконечно усталый, ослабший, с больным, словно бы простреленным сердцем, которому, честно говоря, уже и жить надоело.
Он рассчитывал, что Центр вызволит и его самого, и группу, которую он возглавлял, из застенка, поддержит – японцы не посмеют отказать Москве (несмотря на свою дружбу с Гитлером), но Москва даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь попавшим в беду разведчикам. А японцы точно не должны были отказать, ведь еще до ареста Зорге у Токио с Москвой были подписаны два соглашения: одно – нефтяное, второе – по рыбной ловле у берегов России.
Олигархи, заинтересованные в том, чтобы эти соглашения работали, свернут голову любому японскому генералу, они со всего генштаба спустят штаны и отправят путешествовать по миру с голыми задницами, если кто-то из военных чинов будет сопротивляться.
Оставалось только одно – ждать. Ждать, когда Москва вспомнит о нем, вспомнит о Максе Клаузене и Вукеличе, обо всех тех, кто находится в беде. Но Москва что-то не торопилась вспоминать про солдат своих, которые были ей верны, она вообще не подавала признаков жизни на Востоке, занимаясь только тем, что происходило на Западе, на фронте…
О том, как конкретно складывалась обстановка на фронте, Зорге не знал, но ощущение того, что война не кончилась, его не покидало ни на минуту – война шла.
Передышку прервали быстро: Рихарду Зорге объявили, что начинается суд.
Объявил это не Иосикава, а какой-то чин из Министерства юстиции, рангом, видать, повыше Иосикавы, чванливый, молодой, в золотых очках и в очень добротном европейском костюме. Рихард, понимая, что в тюремном рубище он будет выглядеть по меньшей мере смешно, попросил вернуть ему часть вещей из арестованного гардероба.
Чин в золотых очках важно выпятил нижнюю гy6y и, поразмышляв немного, согласно кивнул.
– Такое распоряжение я дам, – сказал он. Вид у чина сделался еще более важным, чем был две минуты назад.
Распоряжение он дал усеченное: Зорге разрешалось взять один костюм, две рубашки, пару обуви, два галстука и две пары носков – на выбор.
– Этого мало, – сказал Зорге.
Начальник тюремного склада – маленький японец, одетый в военную форму, колюче глянул на Рихарда.
– Ничем помочь не могу, – сухо произнес он.
– Понимаю, – Зорге невольно хмыкнул. – На нет и суда нет.
Он выбрал свой любимый синий костюм с едва приметной полоской, в котором отмечал свой последний день рождения на свободе, рубашки взял следующие: одну белую, другую голубую, в тон костюму, туфли отложил модные, в которых ходил мало, но успел полюбить, – темные, с малиновым свечением и крупными рантами. В пиджаке нашел платок, выстирал его и воткнул в нагрудный карман… Получилось очень нарядно.
Даже в неволе Рихард Зорге, привыкший хорошо и со вкусом одеваться, не изменил своей привычке, словно бы находился не в застенках Сугамо, а где-нибудь в командировке – правда, очень непростой…
К процессу надо было готовиться. Костюм костюмом, но не это главное. Главное – что он скажет судьям, какими аргументами будет возражать прокурорам-обвинителям.
Вот к этому и надо было готовиться. Зорге попросил разрешения у важного чина в золотых очках, чтобы ему дали побольше бумаги и пару ручек с чернилами.
Чин поморщился, но разрешение дал – так же, как и на одежду, усеченное: Рихарду было позволено получить одну пачку второсортной бумаги и два карандаша.
Унывать Зорге не стал: в конце концов, с делом можно управиться и малыми средствами, главное – не «паркер» с золоченым пером, а то, что находится в котелке, как варит эта посудина; и еще важно продукт этот, варево, толково перенести на бумагу.
Конечно, у Рихарда есть адвокат Асанума – человек грамотный, доброжелательный, но он, опасаясь расправы со стороны той же «кемпетай», не сумеет сказать того, что может сказать сам Зорге. Если честно, Рихард рассчитывал только на себя и очень отчетливо осознавал – приговор будет жестоким: либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Третьего просто не дано.
Хотя и не знал Зорге законов Японии (не было времени познать), но все-таки имел основательную юридическую подготовку, университетскую, и это должно было помочь ему.
Ни пожизненного заключения, ни смертного приговора Зорге не боялся – в конце концов, все участники этого процесса, какую бы роль они ни играли в нем – прокуроров, сытых тюремщиков или голодных узников, палачей либо обреченных бедолаг, – обязательно окажутся за чертой бытия, исключений нет, да и устал Зорге чего-либо бояться.
Виновным он себя не признал, какими бы жесткими ни были допросы, сломить его оказалось невозможно. Иосикава это понял быстро, да и говорить Зорге умел хорошо. Он очень толково доказывал Иосикаве, что прибыл в Японию «не как враг, а как друг».

Всю информацию Рихард собирал на островах легально – находил ее в газетах, черпал из рассказов знакомых и незнакомых людей, никого не пытал, никому не причинял боли, не калечил, ни одного из законов Японии не нарушил. Так к чему же тогда придираться?
Это прекрасно понимал прокурор Иосикава и тоже готовился к суду. У него были свои начальники, он обязан был исполнять обвинительные арии по их партитуре… Иначе ему быстро найдут место на бирже безработных.
Первое заседание суда состоялось 31 мая 1943 года.
Утром в тюремном дворе выстроилось несколько черных, с глухими окнами автомобилей: узники были важными, и каждому была положена персональная машина с охраной. Зорге вышел из камеры в отлично сшитом синем костюме, в модных туфлях, от него пахло парижским парфюмом, а шею украшал элегантный шелковый галстук. На исхудавшем лице сияла независимая улыбка. Привычно закинув руки назад, он двинулся к выходу.
Надзиратели с удивлением смотрели на нарядного заключенного, один из них даже вытянулся перед Рихардом, как перед большим начальником.
Май в Японии – праздничный месяц, все цветет, все тянется к жизни, благоухает, птицы поют даже ночью, старики молодеют, воздух напоен сладким духом меда и распускающихся каштановых свечей. Хорошо было на воле.
Зорге остановился у одной из черных машин, с удивлением ощутил, что земля под его ногами внезапно поехала в сторону, чтобы не упасть, он ухватился рукой за крыло автомобиля… Отвык он от земли, от красоты природы и свежего воздуха, который пьянит, как шампанское, отвык от воли, без малого два года уже находится в тюрьме Сугамо, так что не мудрено, что его шатает.
Судебный зал был старый, мрачный, пахнул пылью, мышами, изгрызенной бумагой, сгнившими протоколами, судьи были под стать залу – мрачные, похожие на мумии, в черных мантиях, отороченных красными полосами, неподвижные – этакое воплощение злых колдовских сил…
Вину свою Рихард не признал, он готов был защищаться. Судья протестующе качнул высохшей головой, глянул на прокурора, тот ответно кивнул, словно бы между этими людьми существовала некая договоренность, и теперь они подали команды друг другу. Зорге это засек и едва приметно усмехнулся. Вполне возможно, так оно и было – эти люди сговорились. Значит, и защита должна быть соответственной, усиленной, иначе его съедят и не поморщатся. Зорге вновь едва приметно усмехнулся – суда он не боялся.
Он вгляделся в затемненный зал, народу в нем было немного, в рядах сидели в основном агенты «кемпетай», политической полиции «токко», сотрудники контрразведки во главе с сияющим полковником, державшим между коленями парадную саблю, и больше никого. Журналистов тоже не было – ни одного человека.
Следом за Зорге в суд привезли Ходзуми Одзаки. Одзаки похудел, осунулся, сделался ниже ростом – собственно, с ним произошло то же самое, что и с Зорге, он прошел через те же тернии,
А вот глаза… Глаза у Одзаки оставались прежними – насмешливыми, теплыми, пытливыми, глаза говорили о том, что Одзаки не сдался.
Краешки висков, углы век у Зорге начало щипать, он поначалу даже не понял, что это такое, потом понял и печально качнул головой – все-таки тюрьма добила его… Впрочем, нет, не добила, но сентиментальным сделала. Одзаки улыбнулся Рихарду тихо, понимающе.
Перекинуться с ним хотя бы парой слов, но нет, не дадут – между Зорге и Одзаки встал рослый, одетый в новую необмятую форму полицейский.
Третьим привезли Иотоку Мияги. Мияги был совсем плох: кожа да кости, шатающаяся походка…
Впрочем, Зорге чувствовал себя точно так же, очутившись во дворе тюрьмы, у черного автомобиля – чуть не упал. Рядом с Мияги шел полицейский, готовый в любое мгновение подхватить его.
Усевшись на скамью, Мияги шумно вздохнул и приветственно поднял руку – он был рад видеть друзей. На щеках его горел яркий румянец. Нехороший был это румянец, туберкулезный. Но Мияги не сдавался, держался, улыбка, возникшая на его лице, была такой искренней, теплой, что невольно рождала ответное тепло у всех, кто ее видел, даже у неприступных судей.
За Мияги в зале появились двое, сопровождаемые конвоем: Макс Клаузен и Бранко Вукелич. Макс почти не изменился, был все такой же – большой, добродушный, неповоротливый, щекастый, только седины на голове прибавилось, а вот Бранко сдал, сильно сдал. Зорге подумал даже, что вместо Бранко в зал привели кого-то другого, но это был Вукелич. У Зорге невольно сжалось сердце.
Бранко, Бранко… Что же с тобой сделали?
Судебное заседание началось с вопроса, с которым председательствующий обратился к Зорге:
– Вы признаете себя виновным?
В зале сделалось так тихо, что, кажется, было слышно, как под высоким потолком летает заблудившаяся муха.
Зорге отрицательно покачал головой:
– Нет, не признаю.
Следом такой же вопрос судья задал Максу Клаузену, склонил выжидательно голову. Ответ был тот же:
– Виновным себя не признаю.
Прокурор Иосикава даже заерзал на своем стуле, лицо его стало недовольным, налилось темной краской. Зорге удивился этой реакции прокурора: неужели Иосикава, неглупый человек, ожидал услышать другой ответ?
Никто из членов группы Зорге, привезенных на процесс, не признал себя виновным. Люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, были словно бы связаны одной невидимой цепью, они, разрозненные, каждый сам по себе, просидевшие почти два года в одиночках, не сломались, не превратились в труху, сохранили себя и теперь были готовы защищаться.
Рихард приготовился к долгому процессу, приготовился защищать не только себя, но и Вукелича, Мияги, Клаузена, Одзаки, всех своих товарищей, попавших в беду.
Видимо, независимое поведение узников, категоричные отрицательные ответы их не понравились ни судьям, ни тюремщикам. На следующий день на голову Зорге накинули сетку, в которой его водили по коридорам Сугамо, на запястьях защелкнули наручники и в таком виде втиснули в автомобиль.
На суде Зорге пытались унизить, обзывали шпионом, врагом Японии, «порождением темных сил, стремившимся заслонить, а потом и вообще погасить яркое японское солнце», в ответ Рихард иронично улыбался:
– В первый раз слышу, когда человека, делавшего все, чтобы между соседями поддерживались, а в дальнейшем развивались, укреплялись добрые отношения, называют шпионом; в первый раз слышу, чтобы так называли людей, стремящихся потушить разгорающийся прямо под стенами домов огонь; в первый раз слышу, чтобы это дрянное словцо припечатывали к тем, кто занят самым благородным на свете делом – спасением человеческих жизней… Если бы между Японией и Советским Союзом вспыхнула такая же война, как между Советским Союзом и Германией, то представьте на минуту, господа, в скольких бы японских домах раздавался сегодня горький плач? Миллионы ваших солдат не вернулись бы с этой войны, миллионы! – Зорге предупреждающе поднял указательный палец. – Если честно, я даже представить не могу, сколько это будет – миллион погибших, как это вообще выглядит…
Судьям такие речи не нравились, председательствующий морщился, вытягивал голову в протестующем движении и ударом молотка о деревянную плашку прерывал речь Зорге.
Такое происходило постоянно.
– Не советую вам, господа, муссировать понятие «шпион», которое вы хотите приклеить нам, как ярлык. Ни к чему хорошему это не приведет… И вообще, дело не в ярлыках, не в понятиях, не в кличках, дело совсем в другом, и вы это прекрасно понимаете, – на лице Зорге появлялось насмешливое выражение.
Он был выше судей.
Дни, когда проходили судебные заседания, были такими же однообразными, нудными, затяжными, часто неприятными, как и дни допросов, когда свет солнечный за окном темнел, делался тяжелым, а дни превращались в ночи. И ухо, как на допросах, надо было держать востро. Зорге защищал всех, даже Ходзуми Одзаки и все, каждый сам по себе, тоже защищались, и непонятно было, какая сила победит. Зорге настаивал на невиновности группы «Рамзай» – ею не был нарушен ни один закон Японии, не был выкраден ни один из государственных секретов, не было ничего ни куплено, ни продано, ни одному из подданных микадо не была причинена боль. Так в чем же можно обвинять людей, которые ни разу не нарушили японских законов?
Председательствующий на суде улыбался отрешенно и делался по-императорски важным, словно бы мог изменить законы островов и невиновного сделать виновным.
Заседания суда проходили по-разному: были и общие, на которых присутствовали все члены группы Зорге, были и разрозненные, когда группу разделяли, и каждый отбивался от вопросов судьи в одиночку.
***
Первым не вынес пыток, тюрьмы, суда, издевательств, обвинений художник Иотоку Мияги. Талантливый был человек. Сумел соединить в своих картинах романтичность японской школы с реалистичностью школы Запада, акварельную легкость, плоскостность с объемным многоцветием тяжелых масляных красок, которыми привыкли работать художники Америки, французский импрессионизм с воздушностью китайского письма.
Ходзуми Одзаки, знаток культуры, тонко разбиравшийся в искусстве, не только изобразительном, так писал о картинах Мияги: «Они полны какого-то очарования, выполнены в совершенно особом колорите, в каждой из них скрыта особенная грусть. Некоторые оставшиеся после него картины отличаются большим своеобразием и отмечены печатью истинного таланта».
Одзаки написал о своем товарище, как об ушедшем – к этой минуте Мияги уже не было… Не стало его 3 августа 1943 года.
Жене своей Одзаки также отправил письмо: «Я прошу тебя тщательно хранить все картины Мияги, имеющиеся у нас в доме…» – письмо с наказом дошло, и в семье Ходзуми Одзаки сохранили не только холсты талантливого художника, но и детские, трогательно-наивные картинки Йоко, дочки Одзаки, которую Мияги учил азам живописи, приемам, манере класть краску, прописывать предметы, делать свет плотным, а тени прозрачными, – на память о былом, о времени, которое спустя семьдесят лет вызывает у родственников слезы…
Слухи о том, что происходит в судейском дворце, просачивались сквозь стены в город, по токийским улицам разносились разные сплетни, но о деталях происходившего никто ничего не знал, и если кто-то что-то говорил, то говорильня эта оказывалась обычной болтовней, шушуканьем старушек, направлявших на путь истинный молодых девчонок, лепет ветра, переговаривающегося с птицами, а что происходило в судейском дворце на самом деле, знали, пожалуй, не более десяти человек во всем Токио.
Город жил своей жизнью – печалился, радовался, наблюдал за дымом, неожиданно появившемся над горловиной кратера и плоско растекшемся по горизонту. Дым обрел розовый цвет, начал кудрявиться, словно бы боги выдирали из него волосья… Это был недобрый знак.
Когда Мияги не появился на процессе, у Зорге невольно защемило в груди – он понял, что произошло. Потеря Мияги не будет последней, за этой потерей последуют другие.
Чутье не обмануло Зорге: из семнадцати человек, арестованных по делу его группы, умерли еще пятеро – итого вместе с Иотоку шесть человек; одни были откровенно замучены пытками, другие не вынесли болезней – из лекарств им ведь не давали ничего, даже анальгина и пластырей из колючих долек столетника, у третьих просто не было сил бороться – скончались от тоски и глухой боли, способной есть живое тело. Умирали от дистрофии: если не было денег на еду, то тюремщики готовили для таких заключенных рогожные мешки – безденежные зеки были обречены на смерть, иного пути для них не было…
Жизнь и смерть шли в группе Зорге рядом, как на фронте. Спасение не было запланировано судьбой ни одному человеку.
Не дожил до приговора Иосио Кавамура – не хватило сил, после приговора скончалась Сумио Фанакоси – ее не стало 27 февраля 1945 года, скончался Сигэо Мидзуно, дата его смерти – 22 марта 1945 года… Были и другие потери.
Материалов того, как шел процесс, протоколов заседаний, допросов свидетелей нет, и сколько ни искали их следы, не нашли ничего.
Одни утверждают, что все погибло во время жестокой американской бомбардировки, ведь тогда, в сорок пятом, в огне горели не только папки с завязками и бумаги протоколов, горели бетон, железо, кирпичи, камни… Сгорела и уникальная библиотека Зорге, чрезвычайно ценная, в ней было много редких книг по Японии, сгорели и тома дела Рамзая.
Другие считают, что все бумаги из Токио были вывезены американцами, те успешно спрятали их в глубоком секретном бункере. Ясности в этом вопросе до сих пор нет никакой, на поверхность не пробиваются даже малые сведения, это – тайна за семью печатями.
Причина, наверное, только одна – Перл-Харбор. Если бы не было Перл-Харбора, а японцы вместо него напали, скажем, на Сингапур или Сайгон, как и собирались, то и не было бы столь плотной тайны; слишком уж больно ущипнула Япония богатую и беспечную страну за толстую задницу.
Говорят, что официальная история и ее ревнители в Штатах считают Рихарда Зорге едва ли не главным своим врагом во Второй мировой войне, высказываются о нем очень сдержанно и неохотно.
Но все это – дела последующие, а пока шли заседания суда. Зорге потребовал, чтобы ему разрешили встречу с кем-нибудь из сотрудников германского посольства. МИД, которому положено давать добро на такие просьбы, долго отмалчивался, делал непонимающую физиономию, ежился неприятно, потом, видя, что от ответа не уйти, дал добро на короткую встречу. В конце концов, это же святое дело – разрешить человеку, которого собрались приговорить к смертной казни, повидаться с кем-нибудь из своих – пусть отведет душу…
Рихарду сообщили, что просьба его удовлетворена.
Новый посол Генрих Штаммер отправил на встречу атташе полиции Мейзингера, но тот от встречи увильнул, хотя в посольстве ходил за Рихардом, будто привязанная собака, ел из его рук, пил тоже из его рук; вместо Мейзингера в суд поехал Хаммель, рядовой сотрудник посольства, человек тихий, неприметный, всегда при галстуке, завязанном в крупный тугой узел, он даже спал в галстуке. Зорге знал его плохо, но относился с симпатией – Хаммель не был похож ни на одного из знакомых ему фашистов.
Вид Рихарда поразил Хаммеля – Зорге был очень худ, бледен, тщательно одет, прекрасно выбрит – роскошный синий костюм его не потерял лоска даже в тюрьме, на ногах красовались тщательно начищенные туфли с малиновой искоркой, усталые красные глаза, спрятанные под модными очками в тяжелой синевато-красной оправе, были внимательны. Зорге деликатно поклонился Хаммелю.
Хаммель поклонился в ответ:
– Что вы желаете, господин Зорге?
– Желаю только одного – собственно, даже не желаю, а настаиваю на этом… Моя восьмидесятилетняя мать Нина Семеновна Кобелева-Зорге ныне проживает в городе Гамбурге. О моей жизни, о работе, о том, что я делал, она не знает и не знала ровным счетом ничего, ко всем моим делам не причастна… Не виновата ни в чем. Прошу оградить ее от преследования. Это единственное мое желание.
Хаммель пообещал передать просьбу Зорге новому послу.
– Вы плохо выглядите, – не удержался от замечания Хаммель.
– Судя по тому, что Германия проигрывает военную кампанию, вы, Хаммель, выглядите не лучше.
– Расклад пока – фифти-фифти, господин Зорге, – тихо, но довольно убежденно произнес Хаммель, – чем закончится война, неведомо пока ни одному человеку в мире.
– Во всяком случае, я сделал все, чтобы война закончилась так, как этого желает история, – сказал Зорге.
Продолжать разговор Хаммель не стал. Зорге на продолжении не настаивал. На том они и разошлись.
Уже вернувшись в посольство, Хаммель записал в своих бумагах, что Зорге «производит впечатление человека, гордого тем, что он совершил большое дело и вполне готового покинуть арену своей деятельности. Зорге откровенно и не без торжества говорил о том, что он доволен результатами своей деятельности».
Просьбу Зорге насчет матери Хаммель передал лично послу – Мейзингеру даже не стал говорить об этом, Мейзингер таких вещей не понимает, в лучшем случае он загонит старую женщину в концлагерь. Посол Штаммер, ругаясь, принял Хаммеля.
Недобро шевеля бровями, он проговорил холодным тоном:
– У таких людей, как Зорге, не должно быть матерей. Зорге – враг рейха, а у врагов рейха не может быть родителей, понятно, Хаммель? Они выскакивают, как черти из табакерки. И там же исчезают.
Хаммель молча развел руки – лучше бы он пошел к советнику-посланнику Кордту – во всяком случае, мать Зорге осталась бы жива…
Посол Штаммер сочинил гневную депешу и первым же самолетом отправил ее в Берлин.
О Зорге тем временем вспомнил сам фюрер – на совещании, которое проводил в берлинском бункере вместе с начальником штаба вермахта генерал-полковником Иодлем и рядом его заместителей. Фюрер, нервно похрустывая костяшками пальцев, – словно бы лесные орехи давил себе на утреннюю закуску, прошелся вдоль длинного, обтянутого зеленым сукном стола, затем остановился и выкрикнул, ни к кому не обращаясь:
– Ну, что там наши неверные японские друзья?
Собравшиеся молчали – непонятно было, о чем спрашивал вождь нации.
– Уточните, мой фюрер, – попросил Йодль.
– Я имею в виду коминтерновского агента, которого они изловили с помощью нашей техники, – Гитлер напрягся, вспоминая фамилию агента, в следующий миг вспомнил, память у него была хорошая, – Зорге. Что с Зорге?
– Японская сторона отказалась выдать его нам.
Фюрер недовольно пожевал губами:
– Вот и держи, вот и имей под боком таких союзников, во время атаки они обязательно поползут назад. Надо сделать последний запрос. Если не отдадут – что ж, пусть занимаются этим Зорге сами. Но надо обязательно поставить одно условие – чтобы Зорге был вынесен смертный приговор. Никакого снисхождения! К этому вопросу возвращаться больше не будем, все!
***
Суд шел долго – более трех месяцев, позади осталось душное яркое лето, и зарядили мелкие осенние дожди, своей медлительностью, упорством способные сверлить в зубах дырки, приговор должны были вот-вот вынести, но его не выносили…
Ни сам Зорге, ни его товарищи своей вины перед Японией так и не признали.
– Вы напрасно, господа судьи, обвиняете нашу группу в шпионаже. Всякий шпионаж подразумевает нанесение экономического, политического, научного, технического ущерба. Мы не принесли Японии вреда даже на полмизинца, – Зорге показал судьям палец, попилил его, – даже на четверть мизинца, мы действовали не как шпионы, а как люди, которые пытались уберечь вашу страну от войны, от беды, от боли и пожаров, от черного дыма и плача, стремились сохранить для вас солнце, – Зорге говорил так убедительно, спокойно, красиво, что в зале не было слышно ни одного звука, ни шороха, ни царапанья, ни мышиного писка под полам, собравшиеся очень внимательно слушали его, – и нам удалось это сделать, удалось! – Зорге призывно вскинул руку. – Ваша страна не разбилась о морские скалы и металл Советского Союза, люди не стали убивать людей… Мирно светящее солнце гораздо приятнее вонючего темного дыма пожаров, а смех и радостные песни детей лучше отчаянного плача и криков боли. Согласитесь с этим! – Зорге повысил голос, ему хотелось, чтобы его услышал каждый человек, сидящий в зале, и его действительно слышали все, только ни один человек не отозвался на страстную речь, Зорге улыбнулся печально: было все понятно. – Целые поколения японцев, в том числе и те, кому предстоит жить в далеком будущем, скажут нам за это спасибо. И вы скажете спасибо.
Зал молчал.
– Разве можно называть шпионом человека, который не убивает людей, а спасает их? – Зорге вновь повысил голос. – Спасает, рискуя собой?
Зал продолжал молчать.
Зорге обвел взглядом лица людей, сидящих в рядах. Неужели они не понимают это? Не может быть, чтобы не понимали. Он перевел взгляд на судью, расположившегося за председательским столом, невозмутимого, словно Будда, выставленный в храме на всеобщее обозрение – ничего не говорит Будда, но все понимает, глаза у судьи были хитрыми и в то же время равнодушными, у таких людей не бывает чувств. Судья относился к категории исполнителей, для которых приказание начальства – высшее веление, не подчиниться которому нельзя. Он расшибется, но все сделает, как велено. Значит, приговор по делу группы Зорге уже вынесен, хотя еще и не объявлен.
Так что худшее впереди. От таких людей, как председательствующий на суде, пощады ждать не следует. Эти люди беспощадны.
Гитлер все-таки вернулся к Зорге, это имя здорово засело у него в мозгу, вызывало прочное неприятие, ассоциировалось еще с чем-то, о чем он не говорил, но как бы там ни было, японские власти не сдвинулись с места ни на сантиметр, более того – не сделали даже попытки пойти с фюрером на сближение в этом вопросе… И вообще, они уходили от всех разговоров о Зорге.
Дело было в том, что в отношении Зорге у японцев имелся свой план, выполнить который им очень хотелось. Во время последней стычки потомков самураев с красными войсками в плен к нам попал не кто иной, как потомок императорской фамилии, которого микадо любил безмерно, и человека этого, отнесенного к разряду солнцеликих, надо было обязательно выручить, иначе околеет ведь на лютых сибирских морозах. И этим вопросом активно занималось Министерство иностранных дел островов.
План японцев был бесхитростен: выменять императорского потомка на хромоногого немца, будь он неладен, а там хромоногий пусть едет куда угодно, хоть в Амстердам, хоть в Хельсинки, хоть в Берлин, хоть вообще на Северный полюс… Главное – выручить своего.
По другим сведениям, в советском плену находились два незадачливых потомка из семейства микадо, два подполковника, выли подполковники от тоски так, что в лесу даже волки поджимали хвосты: плен – штука жестокая, в нем люди не только выли – на сучьях вешались.
Такой вопрос, как обмен высокопоставленных пленников, может решить только глава государства. В Советском Союзе – лишь Сталин, и больше никто.
Когда до Москвы дошло сообщение, что Зорге арестован и у японцев есть желание обменять его на двух подполковников из Квантунской армии, Сталин вытащил изо рта трубку, расправил мундштуком усы:
– На кого, говорите, японцы предлагают обменять своих подполковников?
– На Рихарда Зорге.
Сталин жестко посмотрел на начальника Разведуправления, в голосе его появились неприятные пронзительные нотки.
– На Рихарда Зорге? – переспросил он. – Рихард Зорге, Рихард Зорге… – произнес Сталин задумчиво, глуховато, вновь раздвинул мундштуком трубки усы, остановил на собеседнике зрачки жестких, острых желтых глаз. – Кто это?
– Разведчик из Четвертого управления РККА, товарищ Сталин.
– Зорге, Зорге… Не знаю такого, – тихо и раздраженно произнес вождь.
– Товарищ Сталин, Зорге больше всех разведчиков передал шифровок в Центр.
– Не слышал об этом, – раздражаясь еще больше, произнес Сталин.
На самом деле Сталин и слышал о Зорге, и неплохо знал, откуда тот взялся в Четвертом управлении РККА. И шифровки, сопровождаемые уничижительными записками генерал-лейтенанта Голикова, помнил от первого слова до последнего, будто читал их только вчера: память у Иосифа Виссарионовича была отменная.
Загадочная штука происходила с вождем – вполне возможно, что с одной стороны, это была игра, с другой – обычная усталость, вызывающая во всяком человеке раздражение, с третьей – нежелание вспоминать то, что было ему неприятно, с четвертой – он, таким нелюдским способом сдавая, уничтожая людей, воспитывал кого-то из близких.
Такого Сталина – именно такого, каким он был в ту пору, побаивались и циник Черчилль, и рафинированный интеллигент Рузвельт, умерший через несколько лет на сеансе живописи у русского художника Фешина, и долговязый де Голль, для которого не было запретных тем в разговорах. Для «великой тройки» такой Сталин был недоступной, загадочной фигурой. Черчилль с Рузвельтом много раз обсуждали его, пробовали найти разгадку, но так и не нашли.
И уж тем более не могли найти разгадку те люди, которые находились рядом с ним, он был непредсказуем, а непредсказуемые особы, как ведомо, разгадке не поддаются.
Сталин холодно распрощался с начальником Разведуправления РККА, повернулся к нему спиной и двинулся к столу, заваленному картами, а через несколько часов, уже поздно вечером, вернее ночью, стрелки уже показывали без четверти двенадцать, вызвал к себе Поскребышева, своего помощника:
– Затребуйте ко мне из Разведуправления армии дело Зорге. Надо посмотреть, что это за герой.
Факт, что Сталин истребовал к себе дело Зорге и несколько дней изучал его, отмечен в записях Поскребышева. Поскребышев был аккуратным человеком, он ничего не пропускал, знал, что даже малую ошибку ему вождь не простит.
И тем не менее, когда вновь зашел разговор о Зорге, он угрюмо, немигающе, будто у него сильно болел желудок (от такого пристального, проникающего внутрь взгляда желтых глаз даже маршалы втягивали головы в плечи), посмотрел на собеседника и произнес недовольно:
– Зорге? Не знаю такого человека.
Была еще одна причина для подобного ответа. Сталин утвердил доктрину, для самого себя в первую очередь, а уж потом для своих подчиненных: Советский Союз – единственная страна мира, которая не имеет разведчиков.
Ни много ни мало – все страны мира имеют свои разведки, а Советский Союз нет, все нужные сведения он высасывает из пальца и при этом никогда не ошибается, вот ведь как, вторя Сталину, то же самое талдычили разные Мехлисы, Ворошиловы и прочие товарищи с большими звездами в петлицах, они просто голосили на всю Ивановскую: у Советского Союза, согласно существующей в государстве оборонительной доктрине, разведки нет. Нет, и все тут, господа!
На Западе, слыша такие утверждения, только посмеивались да крутили пальцами у виска…
Рамзай продолжал защищаться и защищался умно, убедительно, напористо, состязаться с ним тому же Иосикаве было трудно.
Следом за Вукеличем пожизненное заключение получил Макс Клаузен. Судя по выражению его полного невозмутимого лица, он этому не очень-то и удивился – смирился со своей судьбой. Анна Клаузен получила три года лишения свободы.
Руководителей группы Зорге и Одзаки, как главных обвиняемых, решили оставить на закуску, с вынесением приговора задержались. А пока судьи решали судьбу других членов группы.
Тринадцать лет лишения свободы получил Сигэо Мидзуно, восемь лет – Фукасо Кудзуми, пять лет – Томо Китабаяси. Последние приговоры для рядовых членов группы Зорге были вынесены уже в январе-феврале сорок четвертого года: Иосинобу Косиро дали пятнадцать лет тюрьмы, Угэнде Тагути – тринадцать, Масадзане Яману – двенадцать лет, Сумино Фунакоси – десять лет, Тэйкити Каваи – десять лет, Кодзи Акияме – семь лет, Хитиру Кикути – два года лишения свободы…
Несколько человек обошлись без сроков, и в этом был заложен свой смысл: уже был виден конец войны, Красная армия лупила Гитлера в хвост и в гриву.
Если бы группу Рамзая судили в сорок втором году или, того хуже, в сорок первом, сроки бы дали совсем другие, это как пить дать. А сорок четвертый – это год, когда люди готовились открывать бутылки с красным вином победы, по миру носились совсем другие ветры, и сроки давали другие.
Пока проезжали по улицам Токио, Зорге успевал увидеть в щелку волю: густой розовый цвет поздних сакур с пышными гроздьями, над которыми летали целые облака пчел, гул стоял такой, что от него можно было зажмуриться, плоские шапки деревьев, похожие на огромные зонты, яркие матерчатые навесы магазинчиков и кафе, Зорге ощущал, что у него невольно начинало щипать глаза, и тогда он стискивал зубы – раскисать было нельзя, и уж тем более нельзя показывать свою слабость перед судьями. Из машины Зорге выбирался собранный, с жестким сосредоточенным лицом и насмешливо прищуренными глазами.
Неторопливо входил в здание суда, не обращая внимания на шагавших рядом охранников.
Кто знает, может быть, способность Зорге защищаться заставила судей вынести несколько условных приговоров либо приговоров очень мягких. Кинкадзу Сайдонд получил полтора года с отсрочкой на два года, Токутаро Ясуда – два года с отсрочкой на пять лет. Одному человеку из группы Зорге удалось обойтись вообще без судебного разбирательства. Это был Кэн Инукаи.
Рихард Зорге и Ходзуми Одзаки были приговорены к высшей мере – смертной казни. Объявили это в конце сентября сорок третьего года. Оба выслушали приговор спокойно, ничто не дрогнуло в их лицах, выдержке этих людей позавидовали и судьи, и охранники.
– Сколько времени по японским законам мне дается на апелляцию? – спросил Зорге.
– Десять дней.
Апелляцию надо было подать обязательно. И ему, и Ходзуми Одзаки. Это был шанс, надежда, что верх возьмет совесть. С апелляцией, конечно, надо было поторапливаться, но и спешить особо тоже было нельзя, чтобы не допустить какую-нибудь ошибку.
Защита опытного адвоката, его подсказки, советы, особенно в сложных вопросах (а что может быть сложнее и больнее вопроса о жизни и смерти, наверное, только вопрос бессмертия либо чести) – штука незаменимая, но если адвокат допустит ошибку, то голову сносить будут не ему, а узнику, поэтому апелляцию лучше писать самому. Адвокат Асунама пусть отдохнет.
Зорге обложился книгами. Адвокат принес ему последний справочник по уголовному праву, изданный в Японии, самый новый, новее не было.
Мотив апелляции был знакомый, верный и главное – испробованный на судьях. В нем, собственно, была сокрыта правда: Зорге со своей группой не принес никакого вреда Японии.
Первый вариант апелляции был возвращен: Рихард перепутал на типографском бланке две разные графы – место рождения и страну, гражданство которой он имеет. Ошибка, конечно, незначительная, это была даже не ошибка, а скорее описка, но ее с лихвой хватило для того, чтобы бумага вернулась из канцелярии обратно, Зорге повертел ее в руках, удивляясь ретивости чиновников, выполнявших чей-то приказ, сделал второй вариант апелляции.
Второй вариант постигла судьба первого – он также был возвращен в двадцатую камеру. А время уже поджимало, срок пропустить было нельзя, и Зорге, уже с помощью Асунамы сочинил третий вариант.
– А что, разве второй вариант был так плох, что ему уготовили судьбу обычной мусорной бумажки, которой место только в корзине? – спросил Зорге у Асунамы.
– Второй вариант был нормальный, Рихард. Тысячи апелляций, сочиненных во много раз хуже, проходят, а тут… – адвокат непонимающе пожал плечами.
– Так что же случилось?
– Не знаю. Это какая-то игра… Может быть, к юриспруденции даже не имеющая никакого отношения.
Зорге не выдержал, усмехнулся, а что ему оставалось делать? Только усмехаться.
– Скорее всего, так оно и есть, – сказал он.
Третью апелляцию приняли. Только минюстовский чиновник – сытый, щекастый, довольный тем, что служит своей великой родине, повертел бумагу в руках, пошуршал ею и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Апелляция подана с опозданием на сутки.
В следующий миг он не удержался, на лице его расплылась довольная, ничем не сдерживаемая улыбка. Он шлепнул на бумагу штамп, нарисовал пару иероглифов и сделал небрежный жест рукой, отпуская адвоката Асунаму.
***
Утром 7 ноября Зорге встал рано: сегодня в России праздник, который отмечают и старые, и малые, точнее будут отмечать: ведь отсчет времени идет с Японии, с этих мест, потом перекинется на Владивосток, с Владивостока еще дальше, дальше и дальше, пока не дойдет до Москвы. Страна, ставшая его родиной, размеры имеет такие, что ни один ум не может охватить их, и все это – его родина, а если быть точнее – полуродина… Хотя почему полуродина? Только потому, что отец у него немец? Но родился-то Рихард в России!
Улыбка тронула сухие твердые губы Зорге.
Завтрак был обычным – состоял из смеси баланды с воздухом и добавлением крохотного кусочка лепешки, которым даже голубя не накормишь.
Утро над Токио занималось сумеречное, холодное, в воздухе поблескивали тусклые сверкушки, какие всегда появляются в ноябре перед непогодой. Позавтракав, Зорге помял пальцами себе спину, помассировал поясницу – есть там нервные окончания, позволяющие держать тело ровно, затем тщательно растер затылок, чтобы снять тупой звон, возникший в голове, на затылке существует несколько точек, которые этот звон снимают. Закончив «медицинские процедуры», Зорге уселся за крохотный столик, на который пришлось выклянчивать разрешение, и разложил бумаги.
День не должен пропасть, несмотря на противное двоение в глазах, далекий чугунный гуд, не желающий исчезать из головы, и изнуряющую слабость – то ли от недоедания это, то ли еще от чего-то. Похоже, в нем сходит на нет нечто такое, что позволяет человеку держаться на ногах, быть в сборе, сцеп какой-то, связка…
Он посидел несколько минут неподвижно, потом окунул перо в старую чернильницу-непроливайку (карандаши ему Иосикава разрешил заменить на чернила), проверил на бумаге, как перо пишет. Писало плохо – мешали застрявшие бумажные остья. Зорге ухватил их щепотью, навел порядок, очистил острие – ручка ведь у журналиста все равно, что серп у сборщика ячменя, рабочий инструмент всегда должен находиться в порядке.
Вдруг что-то насторожило Зорге, он отодвинул от себя бумагу и поднял голову – в воздухе словно бы раздался резкий хлопок, какой бывает, когда человек нажимает на курок пистолета.
На душе вдруг сделалось неспокойно – такое, собственно, у него случалось и раньше. Стало ясно – в тюрьме Сугамо что-то происходило… Но что именно? Внутри родилась нервная дрожь, Зорге очень быстро подавил ее – на это силы еще оставались.
В следующее мгновение он понял, в чем дело и что произойдет дальше. Любовно, почти трепетно огладил рукопись пальцами, расправил верхнюю страницу, прижал ее кулаком посильнее, так, что в рукописи осталась вмятина. Жаль, что ему не удастся закончить эту работу.
Зорге аккуратной стопкой, листок к листку, собрал приготовленные к работе наброски, подправил края, сверху поставил чернильницу-непроливашку. Придвинул стопку – это были всего лишь черновики, рабочие заготовки к рукописи, покачал с сожалением головой. У этой рукописи в связи со сложившимися обстоятельствами обязательно должен быть соавтор, продолжатель, но кто станет им?
После странного хлопка в тюрьме сделалось тихо. Раньше никогда в этот час в Сугамо не было так тихо – обязательно раздавался топот на этажах, что-то падало, потом с криками водружалось на место, доносилась крутая ругань, ее забивали чьи-то отчаянные взвизгивания, кто-то кого-то бил, словом, шла обычная тюремная жизнь, а сейчас все это исчезло куда-то. Было тихо, словно бы тюрьма Сугамо наполовину опустела.
Рихард подумал о том, что сегодня праздник – седьмое ноября, день революции, свершившейся в России. По-разному относятся люди к этому празднику, Зорге знал тех, кто проклинал его, как и тех, кто превозносил «красный день календаря» до небес.
Сам он относился к празднику седьмого ноября без особого восторга, хотя если бы ему предложили поставить этому дню знак минус или плюс, он поставил бы плюс. Есть жестокое выражение: «революция пожирает своих детей», есть, но не все революции этим бывают заняты: либо зубы в драке выбили и есть нечем, или где-то в мозжечке что-то сработало, одна химия столкнулась с другой, и начало вырабатываться тепло, не позволяющее вообще есть кого-либо.
Зорге был сторонником революций второго типа.
В Москве сейчас, наверное, трещит морозец, Катя находится на заводе, горожане достают из заначек последние запасы спиртного – праздник же! – со стен домов свешиваются красные флаги.
В дальнем коридоре длинного тюремного здания появилось несколько человек, шагали эти люди неторопливо, с достоинством, лица их были железными, важными, к ним была прочно припечатана маска некой торжественной возвышенности, что ли, чего-то такого, что было непонятно простым людям.
Начальник тюрьмы Итидзима, штатный священник, чью служебную комнату иногда использовали как помещение для свиданий – она одна во всей тюрьме Сугамо подходила для этого, поскольку единственная, пожалуй, несла на себе отпечаток уюта, чего-то человечного. Рядом со священником шагали сотрудники Министерства юстиции, Токийского суда, полиции «кемпетай», еще несколько человек. Но хозяином в этой недоброй процессии был начальник тюрьмы. В некотором отдалении от процессии, почтительно склонившись, следовали еще трое – офицеры из тюремной обслуги.
Около камеры номер двадцать процессия остановилась. Начальник тюрьмы оглядел всех – никто не отстал? – потом от сурово позвякивавшей охапки ключей отделил один, с длинным тощим туловом, к которому была прикручена бирка с номером. Аккуратно, словно бы боясь сломать казенное имущество, вставил ключ в замочную скважину, с глухим костяным хрустом повернул.
Узник камеры номер двадцать встретил непрошеных гостей стоя. Судя по лицу его, по жестким желвакам, вспухшим на щеках, узнику все было понятно – и кто к нему пришел, и с какой целью, он знал даже, какие слова сейчас будут произнесены.
Чтобы лучше видеть гостей, Зорге надел очки – те самые, пижонские, в роскошной малиновой оправе, не обратить внимание на которые было нельзя.
– Ну и что означает этот ранний визит, господа? – насмешливым тоном поинтересовался Зорге.
Начальник тюрьмы был обязан соблюдать протокол, он поджал нижнюю губу и спросил:
– Ваше имя, фамилия, заключенный?
– Рихард Зорге.
Начальник тюрьмы покашлял в кулак, словно бы хотел проверить ответ по бумажке, которая у него имелась, но доставать бумажку не стал, вновь поджал нижнюю губу:
– Ваш возраст?
– Сорок девять лет.
– Вы женаты?
– Женат.
На этот раз начальник тюрьмы достал из кармана бумажку, что-то отметил в ней, неудовлетворенно пожевал ртом.
– У вас есть дети?
– Нет.
Начальник тюрьмы сделал новую отметку в бумажке. Похоже, сверял одну бухгалтерию с другой. В следующий миг выпрямился торжественно, горделиво, словно бы вел заседание парламента Японии, и произнес громко:
– Токийским судом вы приговорены к смертной казни через повешение.
– Я знаю, – спокойно отозвался на это Зорге.
– Верховный суд империи апелляцию отклонил.
– И это знаю, – голос Зорге как был ровным, так и продолжал оставаться ровным, ничто в нем не дрогнуло.
– Приговор должен быть приведен в исполнение 7 ноября 1944 года, то есть сегодня, – начальник тюрьмы пожевал губами и добавил тоном, лишенным всякого выражения: – Сейчас.
Как всякий тертый калач, начальник тюрьмы видел на свете многое – наверное, на четыре биографии обычного человека хватит, но никогда еще не видел, чтобы узник так спокойно, отрешенно реагировал на сообщение, которое другого вогнало бы в столбняк. Зорге глянул внимательно в глаза начальнику тюрьмы, засек там сожалеющие далекие огоньки – совершенно крохотные, не больше металлических блесток, сорвавшихся с напильника, поинтересовался тихим голосом:
– Я хочу переодеться. Можно? Дайте мне несколько минут.
– Конечно, конечно, – потерял свой размеренный ритм начальник тюрьмы, заторопился: – Пяти минут вам хватит, герр Зорге?
– Мне хватит трех минут.
Ровно через три минуты Зорге предстал перед «смертной» комиссией совсем в другом обличии: это был высокий, очень подтянутый, сильный человек, в котором ничего не оставалось от узника. Члены комиссии переглянулись – не ожидали увидеть такое разительное преображение.
Костюм и обувь находились у Рихарда в камере – одежда была выдана ему специально для посещения заседаний суда. А там бывал разный народ, на одно из заседаний пригласили даже двух иностранных журналистов, поэтому не в интересах японцев было выставлять Рихарда в тюремном тряпье. После суда, когда Рихард и Ходзуми Одзаки подавали апелляции, костюм оставался у Зорге в камере – на всякий случай.
Рукопись свою, стопку черновых набросков Зорге накрыл чистым листом бумаги, огладил ладонью: жаль, остается незаконченной работа, которой он отдал много сил. Но уже ничего не поделаешь. Поздно говорить о ней. Соавтор, конечно, вряд ли появится, будет теперь рукопись пылиться в шкафу у начальника тюрьмы, либо у малообразованных следователей типа Оохаси или Аоямы, а потом пропадет вовсе. Что сделать для того, чтобы рукопись эта сохранилась, не пропала, а угодила к другим людям, образованным, ученым, которые в конце концов довели бы ее до ума, использовали материал, собранный им, Рихард не знал. Он прощально оглядел свою камеру и вышел в коридор:
– Я готов.
О чем Зорге думал в эти минуты, вряд ли кто когда узнает, это умерло вместе с ним, но он был более живым, более нацеленным на жизнь, чем вся комиссия, пришедшая к нему, вместе взятая. Это было видно по лицу Рихарда.
Он шел по коридору первым, ни одного охранника рядом с ним не было – охранники топали башмаками в конце процессии. По лестнице Зорге спустился вниз, за ним – сопровождающие, по дороге к процессии присоединились еще два каких-то чина в мятых форменных костюмах. Зорге не выдержал, усмехнулся – когда рядом собираются целые театральные ряды, то и умирать, наверное, бывает легче. Хотя умирать ему придется все же одному. Все остальные – зрители.
Под подошвами башмаков потрескивали кусочки бетона. Тюремный служка в форменной фуражке, стоявший у входа, поспешно ухватился пальцами за ручку и распахнул дверь.
В лицо Зорге ударил свет. Много света, в глазах у Зорге мигом потемнело – такой свет может ослепить кого угодно, не только человека, только что покинувшего тюремную камеру. Зорге решительно переступил через порог.
В стене противоположного блока, такого же неухоженного, облупленного, как и блок, в котором сидел Зорге, была приоткрыта дверь – темный мрачный прямоугольник. Зорге, не раздумывая, направился к нему, – собственно, он находился в том состоянии, когда люди не раздумывают, для этого нет ни возможностей, ни времени, ни душевных сил, сопровождающие, стараясь не отставать друг от друга, направились следом.
Зорге вошел в приоткрытую дверь противоположного блока и лицом к лицу столкнулся со священником – похоже, также штатным. Непонятно только было, что это за священник: то ли синтоистский, то ли буддистский, то ли еще чей-то… О существовании универсальных священников Зорге никогда не слышал, да и грех это великий – заставлять одного человека представлять сразу несколько религий, отпускать грехи и протестантам, и мусульманам, и буддистам, и синтоистам, и вообще людям без веры.
Рихард мог бы обойтись без священника, но решил не ломать традиции, да и лицо у священника было приветливым, сочувствующим.
И одеяние на священнике было неведомо каким, хотя и с японскими иероглифами.
– Кого вы желаете известить о своей смерти, сын мой? – сжав в кулак жидкую бородку, спросил священник. Во взгляде его не было ни любопытства, ни пытливости – только сочувствие, да еще – усталость.
– Никого, – спокойно отозвался Зорге.
– Как вы желаете распорядиться своим имуществом?
Зорге вспомнил о рукописи, оставшейся лежать на столике в камере – неплохо бы ее завещать кому-нибудь, но только вот кому? Он подумал, что без него вряд ли кто доведет рукопись до конца, а раз так… Он не стал говорить о рукописи священнику.
Все остальное, вроде малиновых очков и модных туфель, очень скоро сгниет, поэтому Рихард медленно покачал головой, отказываясь от всего, что у него было:
– У меня нет имущества.
Священник понимающе кивнул и начал говорить о высшем блаженстве, которое приходит к каждому человеку, переступившему грань, отделяющую жизнь от смерти, произносил какие-то затертые слова, которые Зорге много раз слышал, присутствуя на разных панихидах, попытался подумать о чем-нибудь своем, но ничего в голову не приходило.
Была еще тревога, она сидела внутри и казалась сейчас Зорге странной, даже очень странной: ну что перед смертью может быть страшнее смерти, какая может быть тревога на грани между бытием и небытием. Во взгляде священника неожиданно появилось любопытство, которого раньше не было – похоже, он что-то уловил в глазах Зорге, в самих зрачках.
– Позвольте мне задать вам один вопрос? – негромко произнес Зорге.
– Задавайте, – разрешил священник.
– Какова судьба моих товарищей, арестованных вместе со мною?
Священник вопросительно глянул на начальника тюрьмы, тот разрешающе наклонил голову, давая понять: сейчас можно говорить обо всем.
– Кого конкретно вы имеете в виду? – спросил священник.
Рихард понял, что, несмотря на разрешение начальника тюрьмы, вряд ли священник скажет что-либо обо всей группе, да и не знает он ее, поэтому назвал только одно имя:
– Ходзуми Одзаки.
Священник неожиданно вздохнул, потом, вытянув перед собой кисть левой руки, посмотрел на часы, прикрепленные черному лаковому ремешку. Произнес тихо, бесцветным ровным голосом, будто находился на том свете:
– Сорок шесть минут назад, в десять часов пятьдесят одну минуту приговор в отношении господина Одзаки был приведен в исполнение.
В горле Зорге что-то скрипнуло – сил не хватило сдержаться: это было очень похоже на замороженный плач, словно бы внутри у Рихарда что-то сломалось.
Священник молчал, процессия, сопровождавшая начальника тюрьмы, тоже молчала – даже дыхания этих людей не стало слышно, и Зорге молчал. Скрип, сидевший у него внутри, повторился, Зорге стиснул зубы и произнес ровным спокойным голосом:
– Позвольте еще один вопрос?
– Пожалуйста, – священник вежливо наклонил голову.
– Смогли ли немцы оккупировать Советский Союз?
Священник вновь смятенно посмотрел на начальника тюрьмы. У того выпятилась нижняя губа, словно бы он собирался сказать что-то важное, в следующее мгновение он разрешающе наклонил голову, но смятение не исчезло с лица священника: он не знал, как ответить на этот вопрос, какие тряпичные, аморфные слова подобрать, чтобы за них потом не получить нагоняй от начальства.
Процессия тем временем увеличилась, появились люди, чьи лица следовало бы запомнить на всю жизнь, но Зорге уже выплеснул их из своей памяти, навсегда выплеснул, – Оохаси и Аояма.
– В России германских войск уже нет, – в гробовой тишине произнес священник и, качнув головой, словно бы она была непосильна для его худого тела, посмотрел на начальника тюрьмы, потом на Зорге.
От смертника перед приведением приговора в исполнение может последовать любая реакция – любая, кроме одной: безмятежно удовлетворенной улыбки. Зорге улыбнулся широко, лучисто, будто ребенок, которого одарили дорогой игрушкой. Священник опустил голову – человек, стоявший перед ним, был, похоже, сильнее людей, собравшихся в этих бетонных стенах.