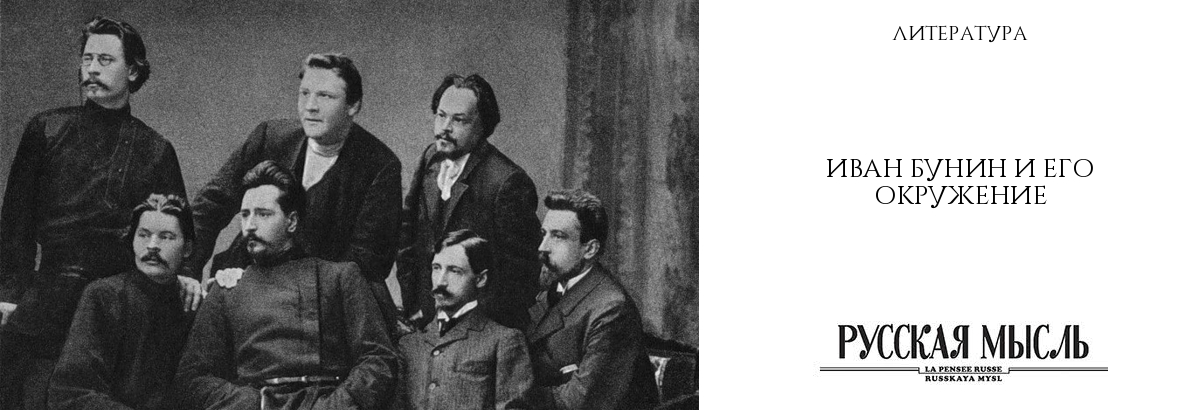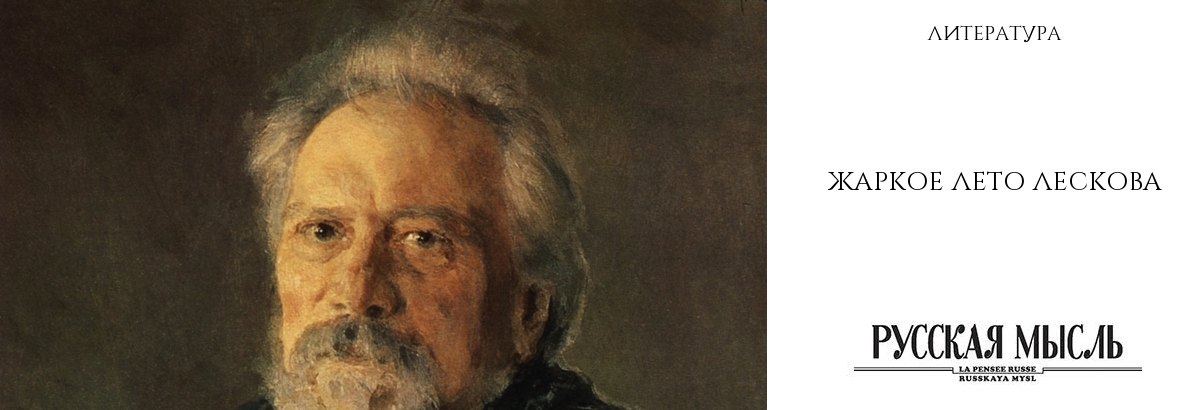И. С. Шмелев: «Через Россией рожденного Бунина признается миром сама Россия, запечатленная в письменах»
Вячеслав Катамидзе
Писатели, публицисты, историки и политологи с самого начала своей профессиональной карьеры познают непреложную истину: одним из путей духовного обогащения и профессионального развития является постоянное общение с коллегами и вообще с творческими людьми. В беседах с ними кристаллизуется уже собственное мнение, в споре рождается истина, в обсуждении формируется позиция.
Начинающий литератор Иван Алексеевич Бунин понял это с молодых лет. Более того, он, будучи образованным, интеллигентным и вежливым человеком, также легко овладел искусством общения с творческими людьми.

В январе 1895 года Иван Алексеевич, оставив службу в Полтаве, впервые приехал в Санкт-Петербург. Известно, что он провел в столице 12 дней. И за этот относительно короткий период времени сумел встретиться с целым рядом полезных для себя и важных для осознания собственного творчества известных людей. Он познакомился с литературным критиком, публицистом и блестящим переводчиком Николаем Михайловским, общался с публицистом Сергеем Кривенко, который был в ту пору теоретиком народничества, за что уже побывал в тюрьме и ссылке в Сибирь. Но важнейшая встреча была у Бунина с поэтом Константином Бальмонтом, ставшим со временем звездой Серебряного века русской поэзии.
Бунин, сам начинавший с поэтических сборников, считал его «поэтом души и сердца», мастером изящной и утонченной поэзии. Восхищался он и переводами Бальмонта.
В 1906 году Бальмонт эмигрировал за границу и стал публиковать свои стихи во Франции, так как в России их не пропускала цензура. Заметим, что в 1923 году Бальмонт был номинирован на Нобелевскую премию по литературе наряду с Максимом Горьким.
Общался Бунин и с Дмитрием Григоровичем, «певцом деревни». Он встретил его в книжном магазине и сразу же с ним разговорился. Как писал позже Бунин, 72-летний писатель поразил его живостью взгляда и енотовой шубой до пят.
Григорович родился в захолустном селе Черемшан в Симбирской губернии. Он автор многих романов, повестей и рассказов на крестьянскую тему, среди которых особенно выделяется повесть «Антон-Горемыка», изданная в 1847 году.
Встречи с авторами и критиками Бунин продолжал и в других городах России. Побывал он и у Льва Толстого в его усадьбе в Хамовниках (ныне Государственный Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках). Заметим, что именно здесь великий мастер создал около ста произведений, в том числе роман «Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий».
В конце декабря 1903 года в Москве состоялась встреча Бунина с А. П. Чеховым, который удивил его своей простотой и приветливостью. Иван Алексеевич так описал эту встречу: «Я, тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, принял эту простоту за холодность…»
Оба собирались в дорогу: Бунин готовился к поездке в Ниццу; для Чехова, жившего в Ялте, то была предпоследняя поездка в Москву. В следующий раз он приедет сюда совсем ненадолго, прежде чем отправится в Баденвайлер, где и встретит свою смерть. Сам Бунин писал много лет спустя: «И не думал я в те дни, что они – наше последнее свидание».
С поэтом Валерием Брюсовым отношения у Бунина не сложились с первого дня знакомства. Бунин изначально не принял символизм, считая, что он слишком далек от лирической поэзии и даже опасен для нее. Но во время первой встречи речь шла не о поэзии; Брюсов обрушил на Ивана Алексеевича классический лозунг символистов: «Да здравствует только новое и долой все ветхое и отжившее!» Бунин воспринял сказанное как то, что его произведения, как поэтические, так и прозу, собираются выбрасывать на помойку. С этой минуты Брюсов перестал для него существовать.
Зато у него появилось много талантливых и деятельных друзей, когда он вступил в литературный кружок «Среда», члены которого собирались в доме Николая Телешова. Это были Максим Горький, его друг писатель и журналист Степан Скиталец, Федор Шаляпин, прозаик и драматург Евгений Чириков, а также сам хозяин дома Николай Телешов.
Искренне любящий искусство и литературу, Телешов помогал писателям и сам был не чужд литературного творчества. Между тем он был потомственным почетным гражданином, совладельцем торгового дома «Телешов Дмитрий Егорович», учрежденного в 1877 году его отцом, членом правления торгово-промышленного товарищества «Ярославской Большой мануфактуры», гильдейским старостой купеческой управы Московского купеческого общества (1894–1898).

Но еще удивительнее то, что Телешов принимал участие в Октябрьской революции, стал одним из первых советских писателей и со временем получил в 1938 году звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
К Бунину он относился как к лучшему другу и даже оплатил его свадебное путешествие за границу – в страны Востока.
Что же касается собраний кружка, то они больше напоминали встречи молодежного литературного клуба, нежели заседания опытных мастеров слова, обсуждающих вопросы текущей издательской политики. Авторы представляли свои новые произведения и даже читали отрывки из них, но обычно речь шла об увлекательных или забавных сюжетах, а не о литературных достоинствах произведения: их оставляли на совести редакторов. Любое обсуждение шло в неформальной обстановке, а чтобы сделать его еще более легким и дружеским, каждый из кружковцев имел прозвище, связанное с названиями московских улиц. К примеру, Максим Горький, любивший рассказывать о жизни босяков, был наречен Хитровкой; Леонид Андреев за приверженность к теме смерти именовался Ваганьковым; Бунину за худобу и ироничность досталась Живодерка.
Были в кружке и другие «характеристики». Николай Телешов называл Бунина «непоседой»: тот не умел долго задерживаться на одном месте, и письма от Ивана Алексеевича приходили то из Орла, то из Ялты.. Горького называли еще и «башмачником», потому что в детстве он был учеником сапожника. Никто на прозвища не обижался.
Интересные отношения складывались у Бунина с Горьким. Их принципы литературного творчества были несказанно различны. Но тогда они питали друг к другу искреннюю симпатию. При первой же встрече Горький сказал Бунину: «Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого». Через несколько дней Иван Алексеевич отправил Горькому свою книгу «Под открытым небом». Началась переписка, которая продолжалась почти два десятилетия. Начиная с 1902 года в газетных новостях имена Горького и Бунина нередко стояли рядом: писатели считались представителями одной и той же литературной группы. Известно, что Иван Алексеевич посещал почти все премьеры спектаклей, поставленных по пьесам Горького. Что же касается последнего, то его отклики на произведения Бунина в предшествующий период были, как правило, позитивными. К примеру, прочитав рассказ «Антоновские яблоки», Горький написал: «Это – хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел». Бунин в ответ посвятил ему свою поэму «Листопад».
Но чем больше чувствовалось приближение революционных событий, тем больше становилась пропасть между двумя мастерами слова. Последняя встреча Бунина и Горького состоялась в апреле 1917 года в Петрограде. Как вспоминал Бунин, как раз в тот день, когда он должен был покинуть Петроград, Горький организовал большое собрание в Михайловском театре, на котором представлял особых гостей – Бунина и Шаляпина.

Публика в зале показалась Ивану Алексеевичу сомнительной, а речь Горького, начавшаяся обращением «Товарищи!» к собравшейся аудитории, и вовсе не понравилась Бунину. Расстались они, в общем, по-дружески. Это дало основание Горькому, когда он прибыл в Москву в первые послереволюционные дни, сообщить Бунину, что он желает с ним встретиться. Но тот в ответ передал через Екатерину Пешкову, что считает «отношения с ним навсегда кончеными».
Стало ясно, что их пути окончательно разошлись. Если говорить о публицистике начала 1920-х годов, то в ней Бунин и Горький стали оппонентами. Иван Алексеевич упоминал о Горьком главным образом как о «пропагандисте советской власти». Горький же высказывал в отношении прежнего друга еще более резкие суждения. В письме своему секретарю Петру Крючкову он заявил, что «Бунин дико озверел». Позже, когда во Франции образовалась довольно солидная группа из известных писателей-эмигрантов, не принявших революцию, Горький так высказался о них в своем письме Константину Федину: «Б. Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев – нечто невыносимо-истерическое. Куприн не пишет – пьет. Бунин переписывает “Крейцерову сонату” под титулом “Митин”». После этого никакая корреспонденция между ними была уже невозможна.
Бунин не был пацифистом в полном смысле этого слова, но он был гуманистом и патриотом. Первая мировая война и ее ужасы произвели на него глубокое впечатление. Когда в 1914 году пришло сообщение об обстреле немцами Реймсского собора, Бунин составил обращение «По поводу войны. От писателей, художников и артистов» с осуждением «германцев», которых называл единственными виновниками войны, уничтожавшими ценности «ради несбыточной надежды владычествовать в мире насилием»; жестокости «германцев» противопоставлялись «мир и освобождение» со стороны Антанты, руководимой «лишь священными чувствами». Помимо самого Бунина, среди подписавших были Федор Шаляпин, Константин Станиславский, Евгений Вахтангов, Иван Шмелев, Петр Струве, Мария Ермолова и Александр Серафимович. Через несколько дней к ним присоединился Максим Горький.
Обращение Бунина, несомненно, было услышано в России многими деятелями культуры, число его поклонников возросло. Среди них был молодой Валентин Катаев, который считал себя учеником Бунина.
Семнадцатилетний Катаев, впервые услышавший о стихах Ивана Алексеевича от поэта Александра Федорова, в 1914 году сам пришел к Бунину, находившемуся в ту пору в Одессе. Впоследствии, рассказывая о знакомстве с писателем в книге «Трава забвения», Валентин Петрович упомянул, что перед ним предстал «сорокалетний господин, сухой, желчный, щеголеватый», облаченный в брюки, сшитые у хорошего портного, и английские желтые полуботинки. Юноша вручил Бунину тетрадку со стихами и прямо сказал: «Пишу… подражаю вам». Аудиенция была короткой, но, когда через две недели Катаев пришел к Ивану Алексеевичу за ответом, в его жизни произошло «первое чудо»: Бунин предложил ему найти время для новой беседы. С этого момента началось их общение, продолжавшееся с перерывами до 1920 года. Когда в 1918 году Бунин и Вера Николаевна Муромцева (вторая жена Бунина) вместе с другими беженцами добрались до Одессы, встречи стали практически ежедневными: Катаев приносил писателю новые стихи, и тот много работал над его рукописями, делал пометки, вносил правки, давал советы. «Посвящение в ученики», по словам Валентина Петровича, произошло лишь после того, как он услышал от Бунина первую похвалу.
Катаев стал участником одесского литературного кружка, на заседаниях которого неизменно присутствовал Иван Алексеевич. Разговоры там велись весьма вольные, и Бунин фиксировал их в дневнике. Позже он сознательно изъял из своих записей некоторые весьма острые катаевские реплики, не желая подставлять своего литературного крестника, оставшегося в Советской России.
Находясь уже во Франции, Муромцева-Бунина посвящала все свое свободное время разбору архивов Бунина, включая переписку с известными литераторами, и тщательно изучала его дневники, стремясь отсеять все, что могло бросить тень на Ивана Алексеевича. Среди многочисленных посланий она обнаружила письмо от Катаева «с белого фронта», датированное октябрем 1919 года. Оно начиналось словами: «Дорогой учитель Иван Алексеевич…»
Валентин Катаев стал со временем одним из самых популярных авторов в СССР. В своей книге «Трава забвенья» он очень подробно и с легким юмором описал, как общался с Буниным в Одессе.
Думается, самой увлекательной сагой в жизни Ивана Алексеевича является история его взаимоотношений с писателем Александром Куприным. Они родились в один год – 1870-м – и познакомились под Одессой спустя 19 лет. Практически с первых месяцев знакомства Бунин, насколько мог, поддерживал нового товарища. Куприн только начинал свои литературные опыты, и Бунин дал ему несколько дельных советов. И дружба, и литературное творчество обоих молодых авторов приносили плоды.
Но со временем Куприна настолько огорчили неудачи с публикацией его рассказов, что он начал разочаровываться в собственном творчестве и даже не решался отнести свои произведения в издательство, зная, что начинающих авторов публиковать не любят. И тогда Бунин самолично отнес рассказ Куприна в редакцию одного журнала.
«Он ждал меня на улице, и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе „штиблеты“, потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан „Аркадий“ угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином. Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:
– Никогда не прощу тебе, как ты смел меня благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!» – записал в дневнике Бунин.
При этом и стили, и характеры, и отношения со знакомыми у них были очень разные. Иван Алексеевич был человеком гордым, а иногда даже резким, а Александр Иванович всегда оставался мягким и добродушным. По воспоминаниям Марии Карловны Куприной, однажды во время обеда в их доме Бунин, гордившийся своей родословной, назвал ее мужа «дворянином по матушке». В ответ Куприн сочинил пародию на рассказ Бунина «Антоновские яблоки», озаглавив ее «Пироги с груздями». Эта сатирическая миниатюра не была обидной, и они продолжали дружить.

Творчество Куприна развивалось, он становился все популярнее. К концу первого десятилетия ХХ века оба писателя были уже широко известны, входили, как считали критики, в первую пятерку литераторов России. Они по-прежнему дружили, но, по сути, были главными соперниками на литературном горизонте страны. Неудивительно, что они оказались конкурентами, когда в 1909 году решалась судьба престижной Пушкинской премии.
Уже в начале мая Куприн, получивший сведения о предварительных итогах конкурса, сообщил Бунину, что им обоим присуждена «половинная» Пушкинская премия. В письме он в шутку заметил: «Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи». Бунин же ответил серьезно: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». В октябре было официально объявлено, что Пушкинская премия за 1909 год поделена между Буниным и Куприным; каждый из них получил по 500 рублей. А менее чем через две недели из Императорской академии наук поступило новое известие – об избрании Бунина почетным академиком по разряду изящной словесности.
Комментируя итоги Пушкинской премии, Куприн в одной из своих книг не преминул отметить символичность того, что на торжественном вечере в доме Бунина среди гостей была внучка Пушкина.
Оказавшись в эмиграции, Бунин не забыл друзей и коллег. Он прилагал немало усилий, чтобы помочь многим русским литераторам, творчество которых он ценил, перебраться во Францию. Куприн, конечно же, был в их числе.
Прибыв в Париж в 1920 году, Куприн поселился в том же доме, где жил Бунин, и даже на одном этаже с ним. Возможно, это соседство иногда тяготило Ивана Алексеевича, привыкшего четко планировать рабочий день и вынужденного порой мириться с бесконечным потоком визитеров, посещавших Куприна. Отношений между старыми друзьями это вовсе не улучшало; супруга Бунина даже заметила: чтобы понять, что происходит в их душах, понадобился бы сам Достоевский.
Тем не менее, получив в 1933 году Нобелевскую премию, Бунин принес Александру Ивановичу 5000 франков. По словам дочери Куприна Ксении Александровны, эти деньги очень помогли их семье, финансовое положение которой было сложным. Одной из причин такого состояния было, кстати говоря, пристрастие Куприна к алкоголю. Оказавшись за границей и тоскуя по родине, он нередко находил утешение в бутылке, что вредило его здоровью.
Хотя Бунин и считал, что задача русской эмиграции – противостоять большевизму, и даже заявил об этом, выступив с докладом на собрании литераторов-эмигрантов, он не стал осуждать Куприна, когда тот решил вернуться в 1937 году в СССР. В эмигрантской среде мнения по этому поводу разделились: большинство Куприна осуждало, но, вероятно, это большинство не знало того, что знал Бунин. Куприн был серьезно болен и считал, что должен быть похоронен на родной земле.
Весьма непростыми были взаимоотношения между Буниным и Набоковым.
Прежде всего отметим, что существует несколько групп литературоведов, историков литературы и критиков, позиции которых относительно связей между этими двумя талантливыми писателями не только различны, но порой и диаметрально противоположны. Одни отмечают в этих отношениях «проблему соперничества», стремление добиться морального превосходства и неоспоримости своих постулатов; другие, наоборот, видят у них сходство в манере изложения, в трепетности подаваемого материала, в глубине психологического подхода к раскрытию характеров своих героев. Возможно, все это было в произведениях и одного, и другого автора, спорить не будем. Но, оценивая период развития отношений между Буниным и Набоковым, трудно не признать, что Бунин всегда поступал намного честнее и благороднее, чем Набоков.
Начало контактов Ивана Алексеевича с семьей Набоковых было положено в конце 1920-х годов Владимиром Дмитриевичем Набоковым, отцом писателя. Это был известный юрист, один из лидеров партии кадетов. Выходец из дворянского рода Набоковых, он был женат на дочери золотопромышленника Рукавишникова. Дед писателя по линии отца был министром юстиции в правительствах Александра II и Александра III.
Про таких, как Владимир Владимирович Набоков, в Англии говорят: «Он родился с серебряной ложкой во рту». В этой семье было правилом всегда добиваться поставленной цели, чего бы это ни стоило.

Так вот, Набоков-старший попросил Ивана Алексеевича дать оценку стихотворению сына, напечатанному в берлинской газете «Руль». Бунин в ответ отправил Набоковым не только теплое, ободряющее письмо, но и свою книгу «Господин из Сан-Франциско». Завязалась переписка, в которую весной 1921 года включился двадцатидвухлетний Владимир Набоков, публиковавшийся под псевдонимом «Владимир Сирин». В своем первом письме начинающий поэт назвал Бунина «единственным писателем, который в наш кощунственный век спокойно служит прекрасному».
В 1926 году вышел первый роман Набокова «Машенька», являющийся, по мнению исследователей, «самым бунинским» произведением Владимира Владимировича. На подаренном Бунину экземпляре автор написал: «Не судите меня слишком строго, прошу вас. Всей душой ваш. В. Набоков».
Через три года Набоков, выпустивший сборник «Возвращение Чорба», отправил Бунину книгу с дарственной надписью: «Великому мастеру от прилежного ученика». Ивану Алексеевичу был посвящен набоковский рассказ «Обида» (1931). Весьма позитивно Владимир Владимирович отреагировал и на присуждение Бунину Нобелевской премии. В телеграмме, присланной в Грасс, было написано: «Я так счастлив, что вы ее получили!»

Затем начался период, когда Владимир Набоков решил, что ему не так уж нужны похвалы Бунина. Из его писем исчезли прежние восторженные нотки. Выпустив роман «Приглашение на казнь» (1936), он на отправленном Бунину томике написал: «Дорогому Ивану Алексеевичу Бунину с лучшим приветом от автора». Наконец, наступил момент, когда Набокову показалось, что он уже достиг того уровня в своем творчестве, когда он не только сравнялся с Буниным, но уже превосходит его. Это, видимо, произошло, когда Набоков ближе познакомился с современной американской литературой, которая в корне изменила формы и типологию как романа, так и новеллы. Сюжеты стали более прямолинейными и более интригующими, в них появилось больше юмора, любовных приключений, и главное – неожиданных поворотов сюжета.
Нельзя упускать из виду и то, что Набоковы обладали огромными финансовыми ресурсами и в полной мере пользовались ими, чтобы пресса, особенно эмигрантская, вела пропагандистскую кампанию, как в Европе, так и в США, создавая образ «молодого литературного гения», русского аристократа, который обходит в популярности даже русского Нобелевского лауреата. На этом фоне начались шумные публичные попытки эмигрантского сообщества определить, кому из писателей принадлежит сейчас лидирующее место на литературном Олимпе. И вот результат: во второй половине 1930-х годов Марк Алданов начал призывать Бунина к тому, чтобы тот признал, что первенство в русской литературе перешло к Набокову.
Первая встреча двух писателей состоялась в конце 1933 года. Бунин прибыл в Берлин на мероприятие, устроенное в его честь публицистом Иосифом Гессеном, и во время торжеств познакомился с Набоковым лично. Бунин был предельно дружелюбен и внимателен к молодому писателю. Ничто не говорило о том, что их отношения перешли в фазу некоего противостояния.
Но тут Бунину был нанесен предательский удар. Набоков опубликовал статью, в которой писал о встрече с Буниным в ресторане, которая ему была противна. Водка, цыгане, жуткая обстановка… Сам Бунин в своем дневнике отметил, что никакой «встречи в ресторане» никогда не было. Вот что он писал в дневнике 14 июня 1951 года: «В. В. Набоков-Сирин написал по-английски и издал книгу, на обложке которой, над его фамилией, почему-то напечатана царская корона… Есть страничка и обо мне – дикая и глупая ложь, будто я как-то затащил [его] в какой-то дорогой русский ресторан (с цыганами), чтобы посидеть, попить и поговорить с ним, Набоковым, “по душам”, как любят это все русские, а он терпеть не может. Очень на меня похоже! И никогда я не был с ним ни в одном ресторане».
Опровергнуть ложь Набокова относительно легко. Николай Телешов незадолго до смерти написал в СССР воспоминания о встречах с Буниным. Вот что там, в частности, говорилось: «Иван Алексеевич часто приглашал меня домой: на блины, на пироги. Но сам ел мало, угощал гостей. В пивных и в кабачках никогда не бывал – брезговал. В ресторанах бывал, но в шумные, купеческие рестораны не ходил никогда. Пару раз мы бывали с ним в тихих, элегантных ресторанах – кажется, английских. Ресторанную музыку терпеть не мог! Ему хотелось поговорить спокойно, а не перекрикивать певиц. И не любил он бывать в местах, куда закатывались нижегородские купцы с девицами из “Яра”. Не так он был воспитан».
Сторонники Набокова и подкупленная пресса продолжала нападки на Бунина. Когда вышла его книга «Темные аллеи», ее назвали попыткой Бунина «уравнять счет с Набоковым». Между тем сам Бунин писал с горечью: «Не будь меня, не было бы и Сирина». Примерно в тот же период Набоков, которого в письменном интервью попросили рассказать о влиянии Бунина на его творчество, заявил, что не входит в число последователей Ивана Алексеевича.
В 1951 году в Нью-Йорке готовилось мероприятие, посвященное восьмидесятилетию Бунина. Марк Алданов предложил Набокову прочитать на этом вечере какое-нибудь произведение юбиляра. Набоков ответил письменным отказом. Это поставило последнюю точку в их отношениях.
В 1906 году Бунин познакомился с поэтом Владиславом Ходасевичем, однако вплоть до переезда во Францию оно было, что называется, шапочным. Их сближение произошло в эмиграции. Иван Алексеевич приглашал Владислава Фелициановича в Грасс, помогал ему деньгами, они встречались на литературных мероприятиях, обменивались книгами, переписывались.

По рекомендации Бунина в 1923 году в Париж переехал также Борис Зайцев – прозаик, в московском доме которого Иван Алексеевич некогда познакомился со своей будущей женой Верой Муромцевой. На протяжении долгого времени Зайцев и Бунин общались очень плотно, считались литературными единомышленниками, вместе участвовали в деятельности французского Союза писателей.
Когда из Стокгольма пришло известие о присуждении Ивану Алексеевичу Нобелевской премии, Зайцев одним из первых оповестил об этом общественность, передав срочную новость под заголовком «Бунин увенчан» в газету «Возрождение».
Шмелев, которого также обрадовало это известие, в своей речи на чествовании Бунина скажет: «Через Россией рожденного Бунина признается миром сама Россия, запечатленная в письменах».
Серьезная размолвка между Буниным и Зайцевым произошла в 1947 году, когда Иван Алексеевич вышел из Союза писателей в знак протеста против исключения из него тех, кто в послевоенный период решил принять советское гражданство. Вместе с ними союз покинули Леонид Зуров, Александр Бахрах, Георгий Адамович, Вадим Андреев. Отметим, что Вадим Андреев, сын замечательного русского писателя Леонида Андреева, вернувшись в СССР, стал журналистом и автором чудесных книг.
Борис Зайцев как председатель этой организации не одобрял поступка Бунина. Он пытался объясниться с ним письменно, однако это привело к окончательному разрыву.
В 1946 году эмигрантское сообщество крайне негативно отнеслось и к согласию Бунина встретиться с советским послом Александром Богомоловым. В среде литераторов-эмигрантов контакты с советскими людьми и тем более репатриация писателей вызывали настоящую ярость.
Когда речь идет о попытках унизить или очернить великих мастеров, в какой бы сфере они ни работали, невольно вспоминается, как отреагировал сын Александра Дюма на подобные попытки очернить его отца. Он выразился так: «Мой отец – океан. Вам не загрязнить его своими нечистотами…»