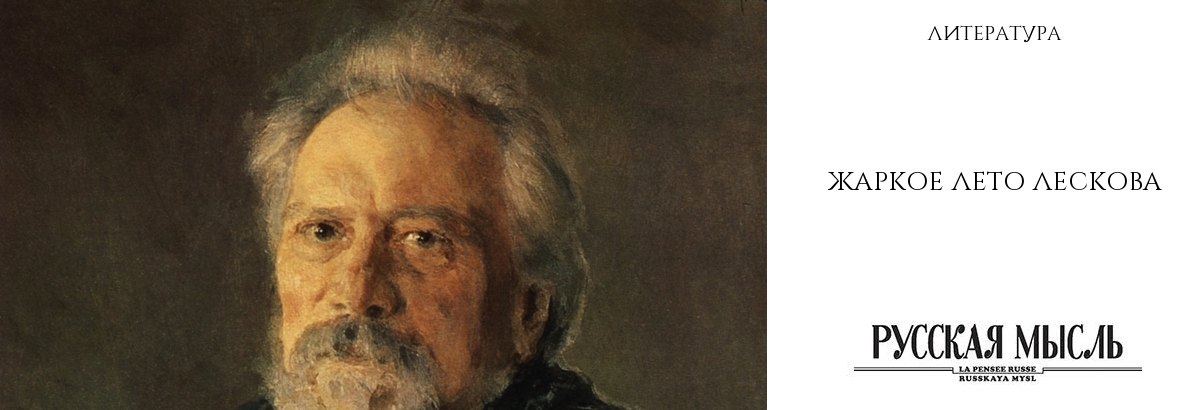О религиозной поэзии Ивана Бунина и о его делах милосердия
Борис Любимов, кандидат искусствоведения, ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина
Каким был Иван Бунин на самом деле? Как звучали религиозные мотивы в поэзии знаменитого писателя? И можно ли говорить о своеобразном богословии лауреата Нобелевской премии по литературе? Как мне представляется, его религиозное мироощущение, миросозерцание, его религиозная интуиция осмыслены еще далеко не полностью и не введены в контекст истории русской литературы и даже истории русского православного сознания XX века.
Бунин – одногодка такого замечательного философа-интуитивиста, как Николай Лосский и незаурядного мыслителя Петра Струве, годом моложе – отец Сергий Булгаков, чуть помоложе Николай Бердяев. О религиозных интуициях его старших и более молодых поэтов-современников – Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского или Зинаиды Гиппиус – написано немало. Бунин в этом смысле стоит особняком. Может быть, единственный из русских религиозных мыслителей, который попытался осмыслить творчество Бунина, отдавая, впрочем, предпочтение другому Ивану – Ивану Шмелеву, – это выдающийся мыслитель Иван Ильин. Но пропустить эту сторону бунинского таланта ни в коем случае нельзя. И я попытаюсь это показать. Причем попытаюсь отчасти и объяснить, почему это произошло. Почему, может быть, не заметили такую важную сторону бунинского мироощущения.
Очень часто и в эмиграции, и не только в эмиграции, и тем более в советский период писали о бунинском дурном характере, о бунинской вспыльчивости, резкости в суждениях, о его категорических высказываниях. И даже те эмигранты или потомки эмигрантов, которые знали Бунина в последний период его жизни, часто говорили о его непричастности к тому общему течению, к тому фарватеру русской религиозной мысли, как она сложилась перед революцией и после революции. Тому причиной мне представляются два обстоятельства.
Прежде всего, Бунин был несомненно одинокий волк, он не вписывался ни в одну группировку русских писателей, ни до революции, ни после революции, он не пел в стае, он не пел хором. И второе – Бунин-прозаик заслонил Бунина-поэта. То, что Бунин выдающийся, а на мой взгляд, и гениальный прозаик, это признано, что называется, всем миром. Бунина-поэта заслонили, может быть, более известные, более яркие, но отнюдь не более глубокие поэты, такие как Александр Блок и Андрей Белый.
Второе обстоятельство – это как раз то, что Бунин в лирике своей, в своей поэзии передавал многие глубокие и душевные религиозные интуиции, обходя их стороной в прозе. Есть такая строчка у Шиллера, которую цитировал герой Достоевского: «Насекомым – сладострастье, ангел – Богу предстоит». Можно сказать, что сладострастье Бунин передавал и в предреволюционные, и послереволюционные годы, и в цикле его «Темных аллей», в прозе, а в поэзии его жил ангел, который предстоял Богу. И может быть, неслучайно в его поэзии как будто разворачивается постепенно, начиная с юношеских лет, некое сложившееся в детстве, в юности, религиозное миросозерцание, которое отнюдь не было утрачено и в последние годы. Любопытно, что, как явствует из его переписки с таким незаурядным деятелем русского зарубежного православия, как архимандрит Киприан Керн, Бунин обращается к нему почти как деревенская старушка к своему батюшке. Он пишет: «Батюшка, перекрестите меня, чтобы мне было легче жить». Звучит почти трогательно, это пишет лауреат Нобелевской премии. И тут дело не только в том, что отец Киприан моложе писателя почти на 30 лет, а еще и в том, что отец Киприан со свойственной ему иногда суровостью достаточно жестко и требовательно отчитал Бунина за его книгу «Освобождение Толстого». Тут они не сошлись. Бунин, каким мы его знаем по его воспоминаниям и по воспоминаниям о нем, любому другому из своих современников, разве что кроме Льва Толстого и Антона Чехова, не простил бы такой тональности. К Киприану же он обращается именно так: «Батюшка, перекрестите меня».
Вот эта несвойственная Бунину интонация в письме говорит о том, что мы еще очень мало знаем, что творилось в бунинской душе и в дореволюционное время, и в страшные годы революции, которые он назвал «окаянными днями», и в трудные годы эмиграции 20–30-х годов, даже в период его расцвета, связанного с Нобелевской премией, и в тяжелейшие годы фашистской оккупации, и наконец – в самые последние годы жизни, когда подступили старость, тяжелая болезнь и почти нищета.
Он прожил, может, не самую трагичную жизнь среди многих русских писателей. «Темен жребий русского поэта: // Неисповедимый рок ведет. // Пушкина под дуло пистолета, // Достоевского на эшафот», – писал Максимилиан Волошин. Конечно же, в жизни Бунина не было ни дуэли, ни эшафота, ни каторги, но найти какой-то легкий период в его жизни очень трудно. Нищета в отрочестве, в юности… Как-то в одном из писем он пишет: «Я живу в нищете».
Можно говорить о благополучном периоде его жизни между двух революций. Это наиболее благополучный период и в истории русской культуры, когда она давала возможность достойно существовать и поэтам, и деятелям театра, музыки, живописи… А потом – ни одного периода счастливой жизни. Несчастливая любовь, неудачный первый брак, смерть ребенка… Жизнь была то более, то менее тяжелой, но крестной она была всегда. И эта крестность жизни, свойственная ему и осмыслявшаяся им в его прозе и трагически, и драматически, в поэзии была на редкость светлой и чистой. Я бы сказал, перефразируя заглавие цикла его прозы «Темные аллеи», что его поэзия – это светлые аллеи. Впрочем, в основном вся его поэзия и уложилась в предреволюционный период, потому что после революции (могли быть еще и другие причины) он стихов писал мало. Поэтому Бунин-поэт – это по преимуществу поэт 1880–1910-х и, может быть, чуть 1920-х годов. Хотя перед самой смертью (я к этому еще вернусь) он написал два стихотворения. Но это, скорее, исключение из правил.
Бунина прежде всего отличает удивительная интуиция Бога: «А Бог был ясен, радостен и прост: // Он в ветре был, в моей душе бездомной…»
Присутствие Бога в природе, в Божьем мире не покидало Бунина в нелегкой и шальной юности. А у кого юность бывает легкая и не шальная? В непростой дореволюционной жизни – и это довольно редкий случай – Бога Бунин не терял никогда. И любовь к Нему он высказывал чаще всего не в прозе, а именно в поэзии, воспринимая Бога именно так – ясно и просто. Есть некоторые опорные точки в его поэзии, это, может быть, первая…
Бунина тянуло к Богу, и приходил он к Нему через разные циклы. Перед революцией Бунин много путешествовал по Ближнему Востоку, отсюда и мусульманский цикл, где есть и переводы, и вольные переложения. Можно говорить и о его ветхозаветном цикле. Как многие русские поэты, он обращался к персонажам Ветхого Завета и к разным произведениям, которые входят в состав Ветхого Завета. Можно говорить о его обращении к русским поверьям, к русскому фольклору – и это тоже было.
Однако основное бунинское восприятие Бога – это не только Бог, но и церковная жизнь, что очень важно. Сказать: «А Бог был ясен, радостен и прост» может и не христианин, и не православный, а просто верующий человек. Бунин прежде всего обретает Бога через храм, через иконы.
Если составить словарь бунинской церковной лексики в поэзии 1900–1920-х годов, то мы увидим, что он воспринимает этот мир не только религиозно, но и церковно. Не только через ощущение присутствия бытия Божьего в мире. Это не просто бытие Бога в мире, это христианское восприятие Бога. Церковное восприятие Бога. И запах ладана, и горящие свечи, и иконы… В более поздний период, совсем центрально, перед самой революцией 1917 года, это возникающие в его поэзии образы Христа Спасителя и особенно Богоматери. Образ Назарета возникает в самых разных его стихах.
Бунин очень рано почувствовал то страшное, что надвигается не просто на Россию, но на весь мир. В июле 1914 года никто не чувствовал, что наступает Первая мировая война, что происходит то, что через несколько лет Шпенглер назовет «закатом Европы». 1914-й был годом благополучия – и экономического, и культурного: расцвет живописи, музыки, Дягилевские сезоны, материальное благополучие у большинства крупных писателей… Этот оптимизм передался и Бунину. Есть стихотворение, к которому можно относиться иронически, а можно даже с некоторой долей трогательности. Когда началась война, он в июле 1914 года написал стихотворение с названием «Последняя война». Мы, живущие сто с лишним лет спустя, понимаем, каким наивным оптимизмом XIX века веет от этих строк. Конечно, благостное мироощущение Бунина 1914 года очень быстро изменилось. И, заметьте, в одном из стихотворений (причем написано оно было в сентябре 1917 года – не тогда, когда наступили окаянные дни, то есть когда Февральская революция уже произошла, но Октябрьская еще не наступила, когда очень многим образованным людям бунинского поколения казалось, что это временные трудности, сейчас наступит расцвет, когда царя не будет) Бунин пишет: «Презренного, дикого века // Свидетелем быть мне дано…» Так что очень рано у него было ощущение конца… Апокалиптическое восприятие мира и собственного конца. «В мире круга земного, // Настоящего дня, // Молодого, былого // Нет давно и меня!» – писал он в 1916 году. И не случайно стихотворения того времени носят названия: «Последний шмель», «Последняя весна», «Последняя осень»… Это ведь он пишет не после 1917 года.
Когда в рассказе «Конец» (1921) он описывает чудовищное бегство из Крыма, из России, надолго, навсегда, как никто тогда не предполагал, это понятно. Но ему трудно отказать в прозорливости: он предчувствовал это в 1916 году, в преддверии окаянных дней.
Бунин отдавал все свои религиозные интуиции поэзии, но все-таки он обращался к этому восприятию – и церковному, и религиозному – и в своей прозе. Я бы выделил прежде всего его рассказ «Чистый понедельник». Своим названием он обращает нас к одному из важнейших дней лета Господня. Героиня приводит влюбленного в нее героя не куда-нибудь, а в Марфо-Мариинскую обитель. Герой рассказа никак не ожидает от этой светской женщины такого идеального знания церковного обряда, канона, устава… Вскоре они расстаются, и уже в 1914 году герой снова приезжает в Марфо-Мариинскую обитель и в одной из монахинь узнает – или ему кажется – свою бывшую возлюбленную.
Бунин написал этот рассказ 12 мая 1944 года. Он запишет потом в дневнике: «Благодарю Бога, что он дал мне написать этот рассказ». Очень редко, когда в прозе, я уж не говорю о поэзии, человек находит в себе силы снова подняться на тот уровень литературы, выше которого, может быть, он никогда и не поднимался. В этих темных аллеях есть и луч света, который пронизывает не только поэзию, но и прозу Бунина.
Есть еще один рассказ, который у нас, к сожалению, мало известен и о котором стоило бы сказать, потому что он тоже относится к шедеврам бунинской прозы, как мне представляется. Это его рассказ «Богиня Разума». Если он свое религиозное мироощущение с некоторым целомудрием отдавал поэзии, то публицистический гнев свой, правый гнев, священный гнев отдавал прозе крайне редко. У него есть рассказ «Под церковным молотом». Я, когда открыл его, думал, сейчас он там про советскую власть напишет все, что думает. Нет, это вполне сдержанный рассказ, и ничего страшнее того, что, кстати говоря, писалось и в советской прозе в 1920-е годы, там нет.
Свое отношение к революции Бунин высказывал в публицистике, а отнюдь не в художественных произведениях. Но в «Богине Разума» он пошел другим ходом. Высказал свое отношение к революции, к бунту, к черни, к тому, что его современник, философ называл восстанием масс. Он рассказал это на материале Французской революции, причем сделал это очень своеобразно. Лирический герой этого рассказа решает найти на кладбище могилу французской актрисы, которая во время Французской революции, когда революционная чернь и ее вожди решили изгнать религию, заменить ее, должна была в Соборе Парижской Богоматери сыграть Богиню Разума. Бога нет, нет Богоматери, а есть Богиня Разума. Герой Бунина едет на одно из парижских кладбищ. Сразу не может найти могилу. Никто не знает, где эта Тереза Анжелика Обри, которая – когда-то самая красивая, прелестная и очаровательная актриса Франции – играла в процессии, предназначенной заменить крестный ход. И даже человек, который служит на этом кладбище, не знает, где актриса похоронена. Она умерла в начале XIX века. И уже безнадежно бродя по кладбищу, герой рассказа находит заброшенную могилу этой женщины.
После Французской революции были и Наполеон, и династия Бурбонов, и другой Наполеон… Деятели Французской революции и многие их идеи давным-давно похоронены. Свободы в 1920-е годы, как пишет Бунин, нет нигде, равенства нет и сейчас нигде, братства нету. Идеи эти похоронены так же, как похоронена эта бедная Анжелика Обри. Бунин рассказывает о ее нелегкой жизни, о том, что она была забыта при жизни, когда умирала от несчастного случая. За окном пели песни про нее, не зная, что она умирает… Можно было бы закончить рассказ, мысль понятна, донесена с бунинскими лаконизмом, конкретностью и точностью. Но после этого Бунин пишет, категорически отделив, отбив от всего сюжета рассказа, абзац, прославляющий Богородицу. С таким почти акафистным восторгом перед Той. Ее же благословенному царству не будет конца.
Самое поразительное, что этот рассказ был напечатан в СССР в томе «Литературного наследства», в одном из двух томов, в 1973 году, если память мне не изменяет. И публикатор этого рассказа, такой замечательный знаток Бунина, как Александр Кузьмич Бабореко, мог бы отсечь этот финал, а он был напечатан. И я думаю, это был единственный случай в советской подцензурной печати, когда к Богородице обращались с большой буквы. И это маленький подвиг и публикатора, и редакции «Литературного наследства», которая, конечно, понимала, вообще-то говоря: в 1973 году за такое могли бы дать и по шапке. Потому что это и бунинское отношение к революции, пусть даже и Французской, но это и бунинское отношение к Богородице.
Бунина очень часто ругали за его дурной характер. А у Лермонтова, у Достоевского? У кого из писателей, у кого из его современников, кстати говоря, был характер легкий? И вряд ли мы восхищаемся характером Сологуба или Мережковского, Гиппиус или Брюсова, я уж не говорю о Горьком, о Леониде Андрееве и о многих других вплоть до Блока или Белого.
Бунина упрекали в безнравственности. Это его-то, человека необыкновенной щедрости, который, получив Нобелевскую премию, щедро помогал нуждающимся и сам остался ни с чем. Не будем забывать, что во время войны он укрывал у себя на вилле еврея. Он жил, правда, на юге Франции, где оккупационный режим был не такой сильный, но тем не менее. Если бы французский жандарм или немецкий полицейский чуть попристальнее поинтересовался, а кто это там живет у русского писателя, можно не сомневаться, что судьба Бунина была бы плачевной.
Христианских поступков в жизни Бунина честный биограф может назвать немало. И я уже говорил о том, что он почти не писал стихов в 1920-е годы. Вершина его поэзии, на мой взгляд, осталась в 1918 году. Это выше и противоположнее того, что написал в начале того же года Александр Блок, вспомним его поэму «Двенадцать». Бунин уже все понимает про революцию, он начинает складывать «Окаянные дни», и тем не менее возвращается к своему: «А Бог был ясен, радостен и прост».
В июле 1918 года, за несколько дней до расстрела царской семьи он пишет:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.
И эти восемь строк – лучшее, что было написано на русском языке в 1918 году…
Бунинская жизнь подходила к концу – и в 82 года он пишет стихотворение, которое заканчивается так:
Никого в подлунном мире,
Только Бог и я.
Он снова, как в юности, как в детстве, как в отрочестве, снова остается наедине с Богом.
У Бунина есть среди его предреволюционных рассказов маленький шедевр: «Легкое дыхание». Я бы сказал, перефразируя название этого рассказа, что в творчестве Бунина иногда очень явно, а иногда скрытно, прикровенно живет Бога легкое дыхание. Лучше всех это почувствовал уже упоминавшийся мной отец Киприан Керн, который писал Бунину: «Боже мой, сколько Ты дал этому человеку, Боже мой, как Ты одарил его, как он богат Тобою… Я восхищаюсь замыслом Божиим о Вас и думаю о том величайшем назначении человека, которое дано всякому и с особенной силой запечатлено на Вас».