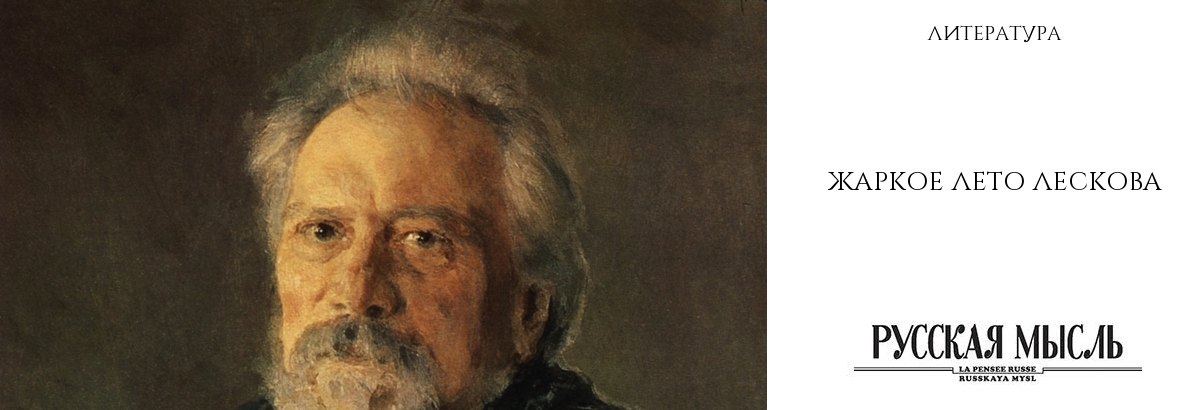К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина
Александр Балтин
Понятие «народность» за последние четверть века сдано в архив советской истории. Тем более оно кажется анахронизмом применительно к поэзии, являясь между тем корневой сущностью поэтического дела, своеобразным кодом чувствования поэтом тончайших биений народного пульса…
Думается, три имени в русской поэзии наиболее соответствуют этому понятию: Пушкин, Некрасов, Есенин (у других великих и замечательных поэтов всегда найдется некое «но» в связке с понятием «народность»).
Никого, вероятно, так не любили, как Есенина: свой и в академических кругах высоколобых интеллектуалов, и в воровской низине, Есенин соединял несоединимое, выявляя общность, самую русскость разнополярных людей…
Он возникал в детстве, и стихи его воспринимались кружевным, ажурно-снежным аналогом счастья, не говоря об их сладчайшей музыке.
Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака…
Он прорастал сквозь юность – ритмами рваными и образностью такой пестроты, что захватывало дух; он становился спокойно-умудренным собеседником в разливах «Анны Снегиной» и взрывал неистовым накалом «Черного человека» и «Пугачева» в годы взрослые, когда трагедийный излом жизни становился понятен и очевиден.
Не всем приходился в пору мистический Есенин ранних поэм или больших стихотворений, таких как «Инония» или «Октоих»; между тем ярко-красные, несколько воспаленные фрагменты «Инонии» пронизаны подлинной эзотерикой… И стих Есенина – Китеж его, буря образности.
Китежа много в Есенине: он наполняет стихи и таинственным мерцанием грядущего, и отчаянием невозможности втащить это грядущее в «сейчас»; Китеж гармонии и правды пронизан сочным калейдоскопом красок, где превалируют красный и зеленый, где золото луны отсвечивает загадкой задумчивости русской природы .
Она тиха и напевна, она не только не ждет бурь, но готова врачевать от них (в том числе и завертевшийся в денежно-эгоистической галиматье современности нынешний социум).
Отчаяние, столь густо разлитое во многих стихах Есенина, компенсируется совершенством, ибо когда такие песни возможны, не все так безнадежно. Не все безнадежно, когда и такие национальные поэты есть у народа, пусть и уведен он в ненадлежащие лабиринты. Пусть… Время всегда союзно с подлинным и никогда не позволяет ржаветь золоту.
Поэтическая формула
Есенину принадлежит поэтическая формула (среди других – многочисленных) необыкновенного, глобально-человеческого, интенсивно-верного восприятия яви:
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове…
Тут нечто из непредставимого грядущего, где лев и ягненок должны возлечь рядом, где будет метафизическое золото жизни и никто не вспомнит про агрессию, столь яро полыхающую на протяжении всей человеческой истории.
В Есенине много ветхозаветного, понятого по-русски: оно вплетено в драгоценные гирлянды строк…
И сколько братьев наших меньших проходит, пролетает по страницам Есенина! Любое упоминание драгоценных существ, словно являет их по-новому; даже иволга, вроде не имеющая отношения к телу стихотворения, вспыхивает в недрах его души:
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.
И Джим, чьи глаза мы видим уже много-много лет, преданные собачьи глаза, способные утешать, поддерживать:
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Во всех стихах Есенина, где речь идет о животных, скрыта особая метафизика: она – о подлинной любви, о векторе правильного восприятия мирового космоса, открытого нам внешним миром.
Снежная Снегина
Снег, снежность, оттенки белого счастья – все это занимает особое место в стихах Есенина: бликует, переливается огнями.
Поэтому и фамилия Снегина знакова: в ней как будто переливается необыкновенной, не подлежащей коррозии и деформации чистотой та волшебная субстанция, что так хороша на Руси…
И село названо Радово – словно согрето волшебной радостью. Недаром же:
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью
Рассажены тополя.
У Есенина особые – круглые, крупные слова, такие были у классиков XIX века. Разумеется, у него уже новые ритмы бурно и буйно начавшегося XX века.

Стих поэмы густ, как питательное млеко, и течет он волшебными лентами слов, как только что взятый из сот мед.
Стих повествовательный, неторопливый, плавно и мерно разворачивающийся; стих, не допускающий никаких сбивов или ритмически усложненных узоров. Вспышкой дается память о войне:
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Село должно исцелить душу, бальзамом волшебных мест пролиться на все ее раны… Но только человек с огромной, целостной и глубокой душой мог слагать такие строки, собирая их в тугой короб поэмы.
Поэма, помимо вполне отчетливой фабулы с ее психологическими извивами, исследует русскую душу: ее феномен, ее очарованность (о которой так хорошо писал Лесков), ее способность сострадать и сопереживать глубоко. И мерцает волшебная, снегом перевитая фамилия, которая сама по себе уже поэзия, усиливающаяся от сочетания с нежным и строгим именем: Анна Снегина…
Поэма поэм
Какой исследователь сможет сказать, с каких пор стал Есенина смущать Черный человек? Приходить, мерещиться, требовать жертвы? Жертвой должна была стать жизнь поэта, ни больше ни меньше: Черный не признает альтернатив и не позволяет уверток.
Неистовое начало поэмы – с образностью абсурдной, с мистической поэтической суггестией, когда у читающего в первый раз словно вспыхивают сомнения:
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.
Потом становится очевидным – ведь так и есть: как же мощно и точно увидено… Но дальше:
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.

Отдает бредом, помноженным на алкоголь, упомянутый сразу же в начале: и бред этот настолько высок, что стоит миллиона нормальностей; неистовство крика, смиряемого мастерством, столь же неистовым. И разворачивается полотно жизни: отчасти грубо, отчасти нежно, порою снежно, ведь не зря же «метели заводят веселые прялки…»
Реквием по себе? Сожаление о несделанном? И такие ноты слышны. Слышно много. Как в грандиозной симфонии: и национальное, русское, совмещающее чудовищно плохое, вроде пьянства до зеленых чертей, пусть соединившихся в одного Черного человека, и немыслимо высокое, вроде дара, позволяющего вершить такие поэмы.
Колонны поэтического текста вздымаются ввысь. Стих не ослабевает ни на миг, увеличивая силу, становясь вовсе запредельным – кажется некуда дальше…
Сложно сказать есть ли в поэме кульминация: она как будто раскрыта в вечность…
В финале – с разбитым зеркалом – даже и успокоение некоторое мелькает: нет никакого Черного, надо жить…
…Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один…
И – разбитое зеркало…
Однако придет следующая ночь, опять наковеркает всего, но поэма уже не взорвется в мозгу, чтобы выплеснуться на бумагу…
И останется феноменальный прорыв в запредельное русской речи, уходящий в бесконечную даль к бесконечным же потомкам…