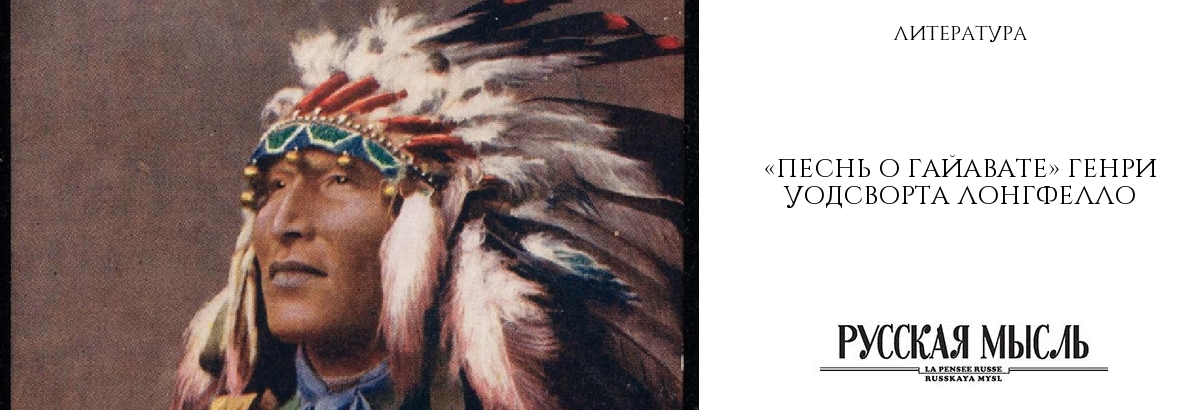К 160-летию со дня рождения Дмитрия Мережковского
Дмитрий Мережковский… Писатель, поэт, переводчик, литературный критик, один из основателей русского символизма. Он писал о литературе с той тонкостью, которая свидетельствовала: именно литература была его подлинной отчизной… Рассматриваются Гоголь ли, Гончаров, Ибсен – в каждом он высвечивает, словно лучом мысли, самую метафизическую сердцевину, не отступая от оной ни на шаг.
И вились стихи…
Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И среди глубокой тьмы
Петуха ночное пенье,
Холод утра – это мы.
Мы – над бездною ступени,
Дети мрака, солнце ждем:
Свет увидим – и, как тени,
Мы в лучах его умрем.
Мистика символизма проступает муаровыми разводами. Неведомое вовлекает в бездну свою, предлагая совершенно иные интеллектуальные орнаменты – вроде близки, а не рассмотришь, как ни тщись. Или – видел Мережковский? Видел, используя таинственные окуляры дара?
На бледном золоте померкшего заката,
Как древней надписи причудливый узор,
Рисуется черта темно-лиловых гор.
Таинственная даль глубоким сном объята;
И все, что в небесах, и все, что на земле,
Ни криком радости, ни ропотом страданья
Нарушить не дерзнет, скрываяся во мгле,
Благоговейного и робкого молчанья.
Преобразился мир в какой-то дивный храм,
Где каждая звезда затеплилась лампадой,
Туманом голубым струится фимиам,
И горы вознеслись огромной колоннадой;
И, распростерта ниц, колена преклонив,
Как будто таинство должно здесь совершиться,
Природа вечная, как трепетная жрица,
Возносит к небесам молитвенный призыв:
«Когда ж, о Господи, окончится раздор
За каждый клок земли, за миг существованья,
Слепых и грубых сил ожесточенный спор?
Пошли мне ангела любви и состраданья!..
Не Ты ли создал мир,
Владыка всемогущий,Взгляни, – он пред Тобой в отчаянье поник,
–Увы, не прежний мир, не юноша цветущий,
А дряхлый и больной измученный старик!..»
Пейзаж – роднее родного, словно осиянный тою же запредельностью, но данный в светлых тонах грустной конкретики:
Далеких стад унылое мычанье,
И близкий шорох свежего листа…
Потом опять – глубокое молчанье…
Родимые, печальные места!
Протяжный гул однообразных сосен,
И белые сыпучие пески…
О бледный май, задумчивый, как осень!..
В полях – затишье, полное тоски…
И крепкий запах молодой березы,
Травы и хвойных игл, когда порой,
Как робкие, беспомощные слезы,
Струится теплый дождь во тьме ночной.
Здесь – тише радость и спокойней горе.
Живешь, как в милом и безгрешном сне.
И каждый миг, подобно капле в море,
Теряется в бесстрастной тишине.
Жильные, стволовые, адские повороты логичной мысли (о! они могут быть какими угодно), – но в стихах мысль декларирована с сухою четкостью: точно бумага стала черна и просыпали по ней дорожку стрептоцидом слов:
Мне самого себя не жаль.
Я принимаю все дары Твои, о, Боже.
Но кажется порой, что радость и печаль,
И жизнь, и смерть – одно и то же.
Спокойно жить, спокойно умереть –
Моя последняя отрада.
Не стоит ни о чем жалеть,
И ни на что надеяться не надо.
Ни мук, ни наслаждений нет.
Обман – свобода и любовь, и жалость.
В душе – бесцельной жизни след –
Одна тяжелая усталость.
В стихах Мережковского нет ничего избыточного, что хорошо и плохо одновременно: исключается буйство словесной живописи, но и мысль кристаллизуется так ясно, что никакая амбивалентность невозможна.
Для Мережковского характерна попытка осмысления смерти: через ужас, через крик внутренней боли:
Из преисподней вопию
Я, жалом смерти уязвленный:
Росу небесную Твою
Пошли в мой дух ожесточенный.
Люблю я смрад земных утех,
Когда в устах к Тебе моленья —
Люблю я зло, люблю я грех,
Люблю я дерзость преступленья.
Мой Враг глумится надо мной:
«Нет Бога: жар молитв бесплоден».
Паду ли ниц перед Тобой,
Он молвит: «Встань и будь свободен».
Бегу ли вновь к Твоей любви, —
Он искушает, горд и злобен:
«Дерзай, познанья плод сорви,
Ты будешь силой мне подобен».
Спаси, спаси меня! Я жду,
Я верю, видишь, верю чуду,
Не замолчу, не отойду
И в дверь Твою стучаться буду.
Во мне горит желаньем кровь,
Во мне таится семя тленья.
О, дай мне чистую любовь,
О, дай мне слезы умиленья.
И окаянного прости,
Очисти душу мне страданьем —
И разум темный просвети
Ты немерцающим сияньем!
О, разумеется, танатология, как была весьма призрачной отраслью знания, так ею и остается; но в той же мере, в какой крылья Таната помавали над стихами символиста, и мера страха превращалась в кванты любопытства, что опять-таки заключалось в изысканно строгие стихи.
Изысканность – всегда строгая дама, и сколь благосклонен ее взор, столь же красивы стихи, а красота была одним из кодов символизма.
Как часто выразить любовь мою хочу,
Но ничего сказать я не умею,
Я только радуюсь, страдаю и молчу:
Как будто стыдно мне – я говорить не смею.
И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычайно, –
Что слишком страшною божественною тайной
Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней.
В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина:
Пока шумят вверху сверкающие волны,
Безмолвствует морская глубина.
Важно обращение к прошлому, из которого, не давая четких объяснений, что же такое настоящее, и растет грядущее:
Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы.
Грядите, новые пророки!
Грядите, вещие певцы,
Еще неведомые миру!
И отдадим мы нашу лиру
Тебе, божественный поэт…
На глас твой первые ответим,
Улыбкой первой твой рассвет,
О, Солнце, будущего, встретим,
И в блеске утреннем твоем,
Тебя приветствуя, умрем!
Хотя воспоследовавшие певцы едва ли удовлетворили бы поэтическую жажду Мережковского…
Пышно и прекрасно сделанная проза Мережковского словно вводит в миры, давно покрытые пластами времен, как почвой. Порой, кажется, не был ли он, несмотря на поэтические свои достижения, заблудившимся прозаиком?
Как полновесно возвышаются своды исторической трилогии «Христос и Антихрист» с романами «Смерть богов. Юлиан Отступник», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» и «Антихрист. Петр и Алексей»! Как прописан Юлиан, отступивший в недра язычества, не понявший истин Распятого Сына Божия. Сок и смак тогдашней жизни, кропотливо восстановленной, пропитывают страницы романа, словно становится домашней для всякого читающего такая древняя явь (и то же верно по отношению к эпохам Леонардо и Петра).
Строгость и точность, характерная для Мережковского-поэта, отражается и в прозе, и в критике. И сложно окончательно определить, кто он в большей степени. Скорее всего творчество его есть сумма сумм, каким и должно, в сущности, быть наследие подлинного писателя.
Юлиан Отступник пламенеет верой в не меньшей степени, нежели современные ему христианские аскеты, но, почитая культ Христа темным, избыточно связанным со смертью, он верит в светлые выси олимпийских богов, разливших в мире столько гармонии, заставлявших работать поэтическую и философскую мысль на повышенных оборотах.
Характерны словесные, переходящие в рукоприкладство, бои всевозможных представителей якобы христианских сект, за которыми – спокойный, в белых одеждах философа наблюдает Юлиан…
Тем не менее Юлиан проиграл. Смерть богов… Не мог он победить – истина была за Христом. Малопонятая, но тем не менее…
Античное христианство было особого рода – нам сейчас сложно представить его. Попытка совместить лучшее, что дали старые времена, с новым, столь сложно усваиваемым; и показательно, как запутывают себя в словесах рьяные адепты толкований учения.
Роман восстанавливает время и быт детально: от дворцовых сцен до сцен в трактирах, весь он пронизан, пропитан густою субстанцией жизни: тогдашней, пестрой; иные словесные пассажи завораживают своей живописностью. То же будет и в романе о Леонардо, и в романе о Петре…
…Петр Первый часто ассоциировался с Антихристом: больно бурно вмешался в размеренный византийский лад тогдашней русской жизни, слишком круто взялся все менять, мешая хорошее и дурное, и сам так дико совместивший лучшее и худшее, присущее человеку, что диву даешься…
Жизнь Леонардо – со всем окружением, антуражем, в который она вписана, наполнена светом почти святости… по крайней мере – того тайнознания, которым дышат высшие души. Леонардо для Мережковского – в равной мере символ гармонии и гения; он кажется несколько усталым гением в романе: его мало понимают, плохо слышат… Но сам образ, погруженный как бы в бесконечные варианты миров, поражает величием, которое может стяжать человек…
Трилогия и ныне читается превосходно, стиль Мережковского современен, и многое в его романах перекликается с днем сегодняшним, хоть и относится к далеким временам.
«Вечные спутники: портреты из всемирной литературы»… Этот цикл очерков о писателях разных эпох и стран, помимо острого глаза и безупречного вкуса Мережковского, отличается его искренним восхищением, ибо нельзя же писать о них, вечных, столько значивших, иначе.
В предисловии Мережковский напишет: «Они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели; они продолжают любить, страдать в наших сердцах как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно сохраняя кровную связь с человеческим духом. Для каждого народа они – родные, для каждого времени – современники, и даже более – предвестники будущего».
Мережковский начинает издалека – пишет о Марке Аврелии и Плинии Младшем – и, будучи мастером проникновения в другие эпохи, словно осовременивает их, показывая, сколь современны классики мысли во все времена.
Сервантес, Кальдерон… великие тени и вечно живые писатели. Едет неутомимо ратоборствующий зло Дон Кихот – прекрасный и печальный, смешной и величием исполненный в нелепости своей.
Мережковский показывает, как много значил Флобер, великий мученик фразы, для развития литературы. Создав новый ее тип, определив новаторский характер психологического письма, он опередил, как и положено классику такого масштаба, время.
Русский ряд – разумеется вечный Пушкин. Сверхсерьезный и абсолютно дурашливый, собравший в органичное единство полюса человеческих нравов; здесь шампанское пенится, а там приходится с отвращением читать жизнь свою, из которой ничего не сотрешь, проклинай, не проклинай…
Монументально возникает Достоевский, пророк духа, проводивший такими лабиринтами поколения читателей, что менялись сердца и души. Но Мережковский видит – это делалось ради света, ради сияния оного.
Гончаров (отчасти будто сам Илья Ильич Обломов) – великолепный автор романов, глубинными пластами показывающих характеры русские, нравы, быт.
Нежный Майков, чьи стихи словно мерцают воздухом поэзии; Тургенев, столь разнообразно показавший нивы и ухабы российской жизни…
Каждого показывая и истолковывая по-своему, Мережковский создает в «Вечных спутниках» не литературоведение, и тем более не критику, но литературу о литературе, тем самым завораживая читателя, как мало кто из писателей умел.